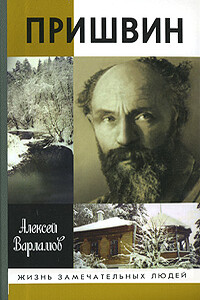Купол | страница 6
Это был человек, недовольный всем на свете. Считал себя творческой личностью, будоражил общественность страстными статьями, отказывался от положенных ему продовольственных заказов и мелких номенклатурных благ, не сходился ни с одним из ответственных горожан, чем все время вносил смуту в устойчивую чагодайскую жизнь. В городе его считали чудаком, одни презирали, другие жалели, но и те, и другие боялись, что он нашлет на Чагодай ревизию. Никто его не понимал, и, не находя места в жизни, несколько раз в год батюшка мой уходил в запои. Начальство смотрело на его отлучки сквозь пальцы: папина слабость позволяла держать строптивого газетчика в узде и притормаживать наиболее резкие его публикации.
Время от времени, устав от попыток переустроить заповедный мир, папа вспоминал о своем отцовстве и принимался за мое воспитание. Но как все чагодайское, я был педагогически непригоден, и наши отношения с самого начала не сложились. Младенцем я орал, стоило ему взять меня на руки, слово «папа» не знал и, когда чуть подрос, звал отца по имени. Мать, как могла, смягчала шероховатости, в двухлетнем возрасте ребенка выглядевшие скорее комичными, отец надеялся, что со временем оголтелая привязанность сына к матери и неприязнь к нему пройдут, а покуда глубокомысленно рассуждал насчет эдипова комплекса и пропускал мимо ушей насмешливые реплики бабушки. Однако с годами непонимание усилилось, и папе стало казаться, что все в этом доме: и властная хозяйственная теща, и кроткая супруга, и даже сын, — находятся в заговоре против него.
Ему не нравилось, как меня воспитывали, — совершенно не по—мужски, кутали в три одежки, баловали и тетешкали, потакали капризам и растили изнеженное существо, в ответ на заботу благодарно отвечавшее частыми простудами, нервическими вспышками и глубокомысленными изречениями:
— Уходи, Вася. Уходи навсегда. Я не хочу, чтобы ты был.
Его жизнь сделалась похожей на ад. Осторожный чагодайский мир не решался восстать открыто, но стал аккуратно опутывать большого человека. Папа смирялся, все реже ссорился с домашними, бросил писать фельетоны, обличать взяточников и грозить им судом — и только за горы держался изо всех сил.
За месяц до восхождения он бросал пить, по утрам бегал в трусах по тенистым улицам, и глаза его лихорадочно и радостно блестели, как у вольного человека. В доме боялись этого блеска. Ни ласковый тон в разговоре с мамой, ни подчеркнутая лояльность к бабушке, ни снисхождение к моим проступкам и сонной забывчивости не могли никого обмануть. Он уходил из дома с рюкзаком, ледорубом, веревками и крючьями, и этот месяц мы жили так, будто в доме был покойник. Но судьба ли, мамины молитвы или мой страх хранили отца, хотя несколько раз в их группе случалось несчастье.