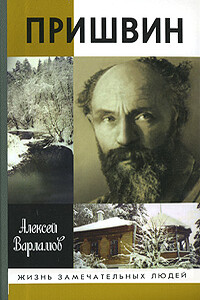Купол | страница 58
Мне почудилось, что изгнавший меня некогда город радуется и винится и в честь моего возвращения в нем устроили бесконечный, небывалый в его истории праздник. Этот праздник вспыхивал на центральных площадях, бульварах и скверах, где собирались и говорили десятки тысяч людей, под откосом железной дороги в Лужниках, возле университета на Ленинских горах, и душа отозвалась тем особенным провинциальным восторгом, какой не стирается, даже если человек прожил в Москве много лет.
Я был, наверное, человеком сентиментальным — как все сентиментальные люди, мог быть жесток к ближнему, и чем ближе мне был человек, тем более жестоким, носил в сердце холод и равнодушие, но способен был любить чужих людей до такой степени, что на глаза набегали слезы и хотелось знакомиться с незнакомцами, записывать телефоны и адреса. Если бы у меня был дом, я бы точно позвал этих людей в гости и поставил на стол все, что есть. Я рассказывал каждому встречному, что жил и учился в Москве много лет, а потом должен был уехать, пускался в ненужные и вряд ли волновавшие их подробности, и не для того, чтобы кто—нибудь из сердобольных демонстрантов или демонстранток меня приютил, но повинуясь внутренней потребности открыть уста. Я не замечал усталости, наконец очутившись в сокровенном граде, который некогда искал осенними мглистыми ночами в засыпанных влажными листьями дворах Замоскворечья, тосковал по нему в Чагодае, провожая взглядом летевшие в сторону юга самолеты.
Не важно, что я ночую на Савеловском вокзале, деньги кончаются, и, как жить дальше, неясно. Я верил, все устроится само собой, начнется другая жизнь: то, что не удалось мне в молодости, то, из—за чего я совершил столько дурного, сбудется здесь и сейчас, и все простится. Быть может, именно за этим нужно было приехать в Москву и, не повторяя прежних ошибок, добиться — чего? Я и сам не знал, чего хотел. Наверное, отрешась от честолюбивых вожделений и похотей гордого сердца, раствориться в толпе и стать ее частью. Я жил ее сокровенной, таинственной жизнью и потому совсем не удивился, когда дождливым июньским вечером на говорливой Пушкинской площади меня окликнул богом ушибленный антисемит, что в студенческие годы написал заметку о лучшем студенте мехмата в университетской многотиражке.
Он сильно переменился со студенческой поры: одевался не так крикливо, носил красивые очки, уверенно и отстраненно держался и сказал, что работает в ** — самой громкой и смелой московской газете. Я смутно припоминал, что тогдашние его речи имели мало общего с нынешним направлением **. Но куда большую неловкость, чем от этого, по—видимому, вовсе не такого уж и странного пируэта, я испытывал от того, что стоял без плаща и кепки, с мокрыми волосами, а по спине у меня текли капельки воды. Нас обступили воинствующие интеллигентные женщины с колючими толкающимися зонтиками, они его узнали и спрашивали о самочувствии вождей, а он немного бахвалился высоким положением и старался выглядеть ироничным, ибо был не просто человеком из толпы, но причастен тем, кто стоял на трибуне и дирижировал человечьими потоками. Вскоре он заторопился и между прочим, скорее из вежливости спросил, чем я теперь занимаюсь.