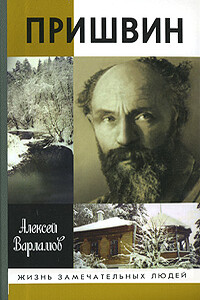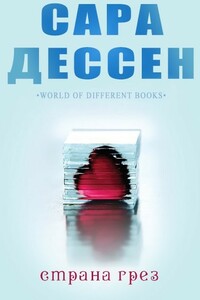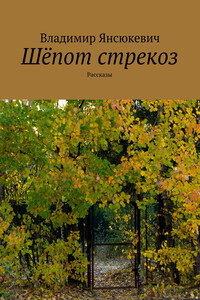Купол | страница 40
Быть может, думал я, бродя по темным чагодайским улицам, наступая на хрустящие льдом лужицы, присаживаясь на лавочки возле чужих домов и мерцая в ночи огоньком сигареты, в далеком будущем на этой печальной земле что—то переменится, но тех, кто жертвовал ради нее свободой, здоровьем и жизнью, к тому времени уже не останется. Мой народ, чагодайское племя оказалось не древними иудеями, а я не Моисеем — рабство продолжалось, и не было этому рабству конца. Так что, куда ни кинь, одна судьба у мыслящего человека в России, чагодайская, — стать почвой, непонятно лишь, для кого и для чего. Сколько поколений ее унавоживало, сколько светлых голов скатывалось, сколько людей пропадало по тюрьмам, психлечебницам, ссылкам, на виселицах, сколько спивалось — все оказывалось впустую, черноземную землю размывало водой, разламывало оврагами и ветрами, разносило по миру, где на крохотных площадях она давала удивительные плоды, и только на родине все пропадало и уходило в бездну. Мне суждено было так же сгинуть, но эта мысль вызвала не отчаяние и не ярость, а ровную печаль и смирение.
Прислушиваясь к далекому лаю собак и будоражившему мою впечатлительную душу близкому нежному гудению самолетов, представляя летевших людей, среди которых кто—то у окна смотрит вниз и не видит ничего, кроме черноты, и даже не догадывается, что под нею скрывается целый город, я размышлял о том, что очень скоро превращусь в чагодайского обывателя в самом отвратительном его облике, женюсь, нарожаю детей, буду брошен женой и сопьюсь. Возможно, все произойдет гораздо стремительнее — может, именно в этом состоял замысел, и даже не тех, кто меня сюда сослал — они слишком глупы, чтобы до чего умного додуматься, — но той слепой силы, которая зовется судьбой и ломает и унижает человека, низводя его на уровень животной твари.
Однажды я встретил на улице Золюшко. Она постарела, согнулась и осунулась. Никогда бы я не поверил, что эта учительница Чагодая имеет возраст, Золюшко навсегда осталась в моем представлении в той зрелой и сильной женской поре, когда волей, хитростью, изворотливостью и упорством женщина заткнет за пояс любого мужика. Но передо мной была тихая пенсионерка, она держала в квартире кошек, выходила гулять в сквер, щурилась на пробегающих мимо орущих мальчишек и грозила им пальчиком, упиваясь воспоминаниями о той властной поре, когда любого могла поставить в угол. Это похожее на старость нацистского преступника, скрывающегося от правосудия в Южной Америке, золюшкино благополучное доживание до смерти вызвало во мне горечь. Неужели так и окажется безнаказанным зло?