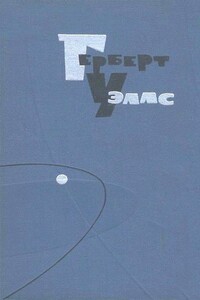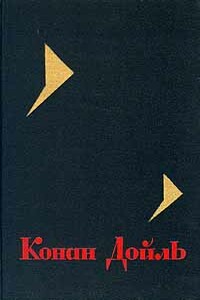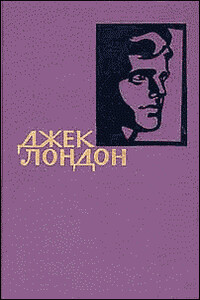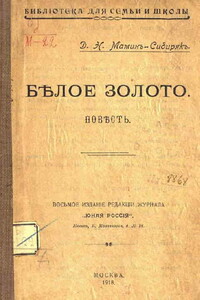На рубеже Азии | страница 31
— Уж какие ему утята! — махнув рукой, говорила Луковна. — Ему жареного-то утенка не поймать на тарелке.
— Отчего он такой сделался? — спрашивал Меркулыч.
— От ученья, батюшка, все от ученья, — отвечала совершенно чистосердечно Луковна: — я как-то насмелилась и спросила его об этом, а он мне и говорит: «Трудно, маменька, учиться было…» — Что же, говорю, учителя, говорю, строгие были? — «А вот, говорит, маменька, бывало так: принесут покойника, учитель придет, возьмет нож и давай его пластать, а ты стоишь и смотришь. А как, говорит, учитель-то рассердится, маменька, да ножом?» Вот от страху сердце-то, видно, издрожалось, он теперь и скудается здоровьем… Вышел как-то на полянку утром, прилег на травку, где маленьким еще валялся, погрелся на солнышке, а потом печально таково говорит: «Нет, маменька, видно, и солнце уж не греет меня…» Он ведь всегда так мудрено говорит, что не скоро его поймешь: такой уж мудреный вышел.
Этот «мудреный» доктор несколько поохладил мои мечты непременно быть доктором, а рассказ Луковны об учителе с ножом поверг меня даже в уныние, пока отец не убедил меня, что все это пустяки и что Сергей Павлыч просто пошутил над матерью. Вообще доктор не оправдал тех ожиданий, какими мы все жили в первую минуту его приезда; розовое барежевое платье Нади опять было спрятано в ящик, значит, была не судьба исполнить ему предназначенную роль.
V
После отъезда доктора курсы Луковны сильно поднялись, потому что, как-никак, а все-таки она теперь была «докторова мать», и все отлично помнили жирные эполеты доктора, его денщика и его экипаж; даже на Лапу перепала малая часть лучей докторского имени: все-таки и она была «докторова сестра», что в нашей захолустной иерархии имело большое значение. Сама Луковна осталась прежней Луковной, нимало не гордилась своим новым званием и по-прежнему работала без устали; я немало удивлялся такой скромности с ее стороны и не раз высказывал ей, что она теперь достигла полного и безмятежного счастья, которое ничто не в состоянии разрушить.
— Ах, Кирша, Кирша, какой ты глупый человек! — добродушно говорила мне Луковна: — как знать вперед: сегодня я докторская мать, буду зазнаваться, а завтра Сереженька умрет, тогда что?.. Нет, голубчик, он сам по себе, а я сама по себе: всяк сверчок знай свой шесток.
Меркулыч сильно изменился, сделался задумчив и рассеян; приходя к нему, я часто заставал его в таинственных беседах с Лапой, конечно, когда Луковны не было дома. Странное поведение Меркулыча скоро объяснилось: однажды Луковна явилась к нам и о чем-то очень долго и очень тихо разговаривала в гостиной сначала с отцом, а потом с матерью; когда она ушла, отец проговорил: