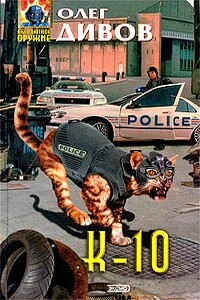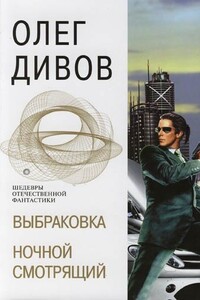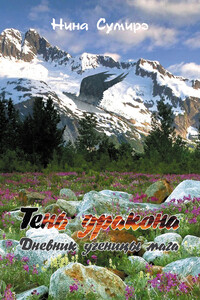Стрельба по тарелкам | страница 58
Как верно заметил лейтенант Миша, «самолюбие-то у людей не казенное».
Боброва от других отличала искренность помыслов: он был уверен, что «на звене» принесет максимум пользы «Воронам». Но одно дело – мотивы, а другое – как это выглядит со стороны. И тут уж ничего не поделаешь.
Боброва невзлюбили, потому что он не боялся «Ворона», принимал машину, как она есть. Никто не сказал ему худого слова, но многие подумали.
«Экспериментаторы» тоже не боялись «Воронов», наоборот, они в них души не чаяли. И уж в адрес «экспериментаторов» никто не жалел разных слов.
Волей-неволей такое отношение сблизило Боброва с этими странными пилотами, непонятно за каким дьяволом завербовавшимися в армию. Он потянулся к ним, заговорил раз, заговорил другой, поймал волну ответного интереса… Узнал кое-что о них. Начал что-то подозревать. Начал жалеть. Мысли летать вместе не было – слишком уж «экспериментаторы» задирали носы, с такими трудно сладить. Хотя у Боброва имелся козырь: он объективно был лучшим штурмовым пилотом, нежели они, со всеми их талантами. Он мог научить их той самой «четкости», за которую его уважали.
В обиходе эту четкость называют просто выдержкой. На земле ее Боброву частенько не хватало. Видимо, расходовалась при постановке на боевой курс и атаке. За секунды.
Когда на «экспериментаторов» вызверились все, решение будто пришло само собой. Бобров не терпел несправедливости и просто по-человечески вступился за ребят. Увлекся, пошел на принцип, дал слово командиру…
Не сразу он сообразил, как его поступок расценили однополчане.
Забавно, что Чумак, Хусаинов и Пейпер выглядели испуганными, когда их осчастливили новостью: летать будете, да еще и «с самим Бобом».
Пейпер, подумавши, воспринял это как профессиональный вызов. Он все на свете только так и воспринимал.
Чумак много и изобретательно выпендривался, пока не увидел, что Бобров плевать хотел на его штучки. Убежденный в своей невыносимости, Чумак сделал вывод: Бобров достиг высшего просветления, он практически бог. И тут же возлюбил командира, как отца родного.
Хусаинов первым делом вручил Боброву докладную записку о системных ошибках в учебном процессе. Бобров записку прочел и назавтра половину аргументов Хусаинова подверг жестокой критике, а другую половину – критике убийственной. Звучал «разбор полетов» академично, без единого личного выпада, и под занавес как-то незаметно превратился в доверительную беседу. Хусаинов, отвыкший в полку от человеческого разговора, был сражен наповал. Тут Бобров добил его – дал свою докладную на ту же тему и попросил оппонировать. Хусаинов ночь корпел над бобровской бумагой и даже нашел в ней пару огрехов, которые Бобров с благодарностью исправил.