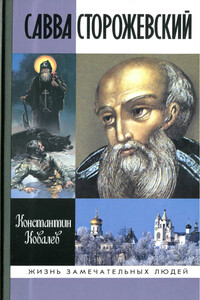Путешествие в седле по маршруту "Жизнь" | страница 54
Я спросил:
— Он что у вас, давно врать стал?
— Недавно врать стал, — сказал Антикян.
— А где?
— В менке ног стал
Лена приблизилась на короткой рыси.
— На мундштучок его побольше, — сказал Антикян, — построже на мундштучок.
— Он все время задом поддать хочет, — пожаловалась она, — подыграть.
Вдоль правого заборчика Хевсур взял в галоп.
— Как вон в тот угол заедет, так врет, — сказал Антикян.
— Он просто нервничает здесь, — сказал Вера.
— Слушай, что ему нервничать, никто не нервничает, один он нервничает, — сказал Антикян и сунул новую сигарету в рот не тем концом.
Началась работа над менкой. Казалось, крепко ведомый Леной, конь поймал уже ритм, мерно вздымались его копыта. "Так, так, так", — кивал Антикян, но Хевсур внезапно взбрыкивал лоснящимся на солнце крупом, и берейтор страдальчески морщился.
Вскочил, побежал на песок, стал осматривать подпругу, потник.
— Может, послабей седловку?
— Да седловка тут ни при чем, — сказала Лена.
— А почему он прыгает? Что ему мешает?
— Ничего ему не мешает, он валяет дурака.
Лена, сжав добела губы, снова принялась за менку. По соседству в березовой битцевской роще ударила кукушка. Ее деревянный альт пришелся точно в такт движениям лошади — в один темп. Но Хевсур вновь скозлил, вновь скривился Антикян, а кукушка все куковала, и я подумал, не отмеряет ли она Лене долгие, такие же тяжкие спортивные дни.
А Лена куковала другое — бесконечные попытки заставить рыжего упрямца проделать летящие пассы непослушными своими копытищами.
— Вот, вот, — кричал Антикян, — сейчас хорошо было!
— Да, хорошо… Сидишь как на пороховой бочке, — Лена повела в нашу сторону прекрасными, долгими, тяжеловекими, такими полными отчаяния глазами.
— Обе запутались, и лошадь и она, — прошептал Антикян.
Бедная "пороховая бочка"! Другие-то рядом с ним и впрямь походят на кургузые бочонки, но строчат себе, как ни в чем не бывало, короткими ножками. А он так скульптурно величествен, так симфонически льются одна в другую его совершенные мышцы под сеточкой вен, похожей на дельту Волги на карте. "Он чем хорош? — скажет потом Угрюмов. — Он заполняет собой манеж". А всадница миниатюрна, вроде бы не по коню, но в этом особый колорит, неповторимость сочетания.
Позже я скажу об этом Лене, и она вскинет на меня доверчивый взгляд: "Правда? Это хорошо, если так, а то я въезжаю в манеж и пугаюсь — вокруг одни Петушковы. Хорошо, если мы от всех отличаемся, если ты, конечно, прав".
Но бедный Хевсур! (Кто я такой, чтобы звать его Большуней, как Лена, или Хачиком, как Толя?). "Давай, ну, давай", — звучит тихий накаленный Ленин взрыд, и на лице коня — не могу, хоть убейте, назвать мордой это благородно-удлиненное, трепетно чуткое — растерянность, непонимание и горестная жажда понять, чего от него хотят и почему он не может.