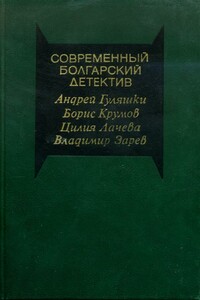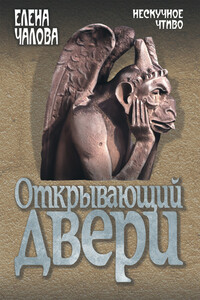Калуга первая (Книга-спектр) | страница 99
Нет-нет, разгонял я монотонные вопросы, и сталкивался с пытливым взором Зинаиды, собирал остатки воли, смотрел на Леночку и говорил себе, что больше мне ничего не нужно, с меня довольно и этой крошечной вселенной.
А струны Копилина звучали возвышеннее, чем голоса.
И если бы не излишняя сентиментальность голодной девушки, вечер мог бы закончиться так ровно и плавно, как угомонившееся море. Но кода Копилин доиграл, она очень чувственно и излишне искренне сказала:
- Как это здорово, если бы мы могли жить вот так единой дружной семьей!
И всем от избытка чувственности стало неловко и грустно.
Один тайный чемпион придвинулся к ней поближе.
Глаза у гостей увлажнились, они поспешно вставали с мест. Но никто не шел к выходу. Все смотрели на Зинаиду, зная, что она должна закрыть вечер, резюмировать наговоренное. И она сказала:
- Правда у каждого своя, но есть истина, которая не есть правда, а настоящий талант всегда вызывает жестокую зависть.
Из этого все поняли, что и на неё сильно подействовала музыка Копилина, и поэтому один прекрасный тезис наложился на другой и долгожданного парадоксального эффекта не вышло.
Помню, я встал, довольный, что сегодня Зинаида меня не потрошила, когда случилось нечто полуфантастическое - вдруг, совершенно ошеломляюще, философ грубой дырки вышел на середину и не упал, а буквально бухнулся на колени и дико заголосил. Именно заголосил.
И это было ужасно! Он смотрел на Копилина мучительным пылающим взглядом, и сверху его здоровенный голый череп казался желтым диском, мистической шаровой молнией, влетевшей в раскрытое окно.
Он причитал, как на кладбище:
- Каюсь! Во всех гадких грехах каюсь! Все пробовал, идиот! За думки тщеславные, за возню постельную, за обманутых этим черепом, - бил он себя кулаком по голове, и на глазах она наливалась кровью, - прости, Зинаида! умолял он со слезами на глазах, - Простите все. Отпустите грехи! Не могу носить их! Переполнен! Бил зверей по голове, бил! Жену ненавидел и смерти ей желал! Все мне мешали! Род человеческий презирал! Гордыня изъела! Требовал от других чистоты, которой сам не имел! Нечист был, как и само времечко! Слаб, подл и жаден! Унижать любил, на каждом шагу трусил! Мерзостен!..
О, как долго он кричал, чем дольше, тем унизительней. Во мне все дрожало, сотни зеркал ломались, стекло резало и кололо, и сквозь трещины и выбоины проглядывали новые зеркала, уже изуродованные узорами трещин, отражающие мои искривленные "я"; и я бы выскочил вон, если бы не этот проклятый обездвиживший всех шок.