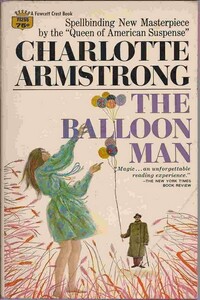Калуга первая (Книга-спектр) | страница 75
И кто его знает, фактические то слухи об отречении или так себе круги на воде от камня, брошенного дураком или злопыхателем. Со Строевым понятно - у него есть причины поверить - память об апельсине и уютном разговоре живет в его воображении и подпитывает в нем веру в справедливость. Но зачем же бедняге Раджику грозило в один ужасный миг завизжать нечеловечески, забиться в истерике от гнева на несовершенство (не свое, к тому же) мира, который в детстве обещал быть бесконечным и солнечным, как летний утренний лес у голубого озера, где каждый человек опрятен и идет всем навстречу с дружеской улыбкой. Не от того ли он бывал на грани безумств, что наслушался разных гадостей, разуверился в выживших и заскорбил по павшим? И не смог бы Копилин проклинать мать и отца, заглянув за шторку спальни-прошлого, где отец бы истязал мать, а мать дурела и блудила бы в отместку напропалую. И если нет проклятия и нет надежды, чего ещё ждать, кроме истерики?
"Не буду я об этом писать, - в минуты откровения говорил Раджу Веефомит, - мало кто поймет, а страхов и так достаточно. И потом, я сам в своей жизни говорил так мало добрых слов, а дел добрых сделал и того меньше. Больше жду, чтобы мне подарили..."
Далее Веефомит молчал, переваривая ощущения низости, прощая всем, в том числе и Строеву, его исконно русскую болтовню.
И уже гораздо позже, когда любые слухи устроили всякую возможность существования, спалив мешок с отвергнутыми сюжетами, без малейшего намека на какие бы то ни было власти, и испытав огромнейшую ответственность перед доверием, которое проявила к нему жизнь, изрядно поседевший, все ещё жилистый и живучий Веефомит, в небывалом восторге написал на белой стене черно и крупно:
"О поверьте! Не каждый увидит в грязном пыльном булыжнике - метеорит, того самого стремительного и светлого странника, который прежде чем упасть вам под ноги, преодолел вечность."
Что он этим хотел сказать, калужане до сих пор только догадываются.
Оранжевое.
Он пришел поздно ночью, когда я давил кочергой крысу, попавшуюся в мою ловушку.
Я давил её - она верещала, я давил её - и весь человеческий мир осуждал меня и мой палачизм.
Но я давил, сжимая пальцы, эту мякоть и эту тварь, потому что всегда видел в ней пародию на самого себя.
Я давил самого себя этой кочергой, и сам корчился и пищал под железным прутом, взывая к жизни, желая жизни и только жизни.
И это из-за меня ополчился весь род человеческий на давящего кочергой.