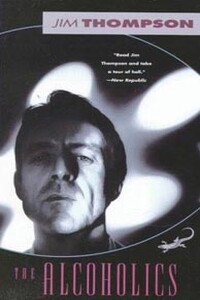Калуга первая (Книга-спектр) | страница 24
* * *
Об этом догадывался только один человек на свете. Можно сказать, что он наверняка знал, почему Строев "бросил перо", возможно, знал лучше, чем сам Леонид Павлович. И не потому, что человек этот был ясновидящим или там чернокнижником. Не поэтому.
Человек этот попросту знал Леонида Павловича ещё с тех пор, когда он не был таким известным; он помнил о его слабостях, тонкостях и потенциях, он плыл с ним на белом теплоходе по ночной реке в какой-то давно прожитой жизни. Он мог бы сам написать, кто прыгнул, а кто остался, он вспомнил бы, почему прыгнул, но человек этот давно не жил по законам реальности и поэтому ничего не написал, считая, что всякое достоверное изложение ничего не стоит, кроме стоимости газетной информации о текущих мировых событиях. Он мог бы лишь устно сказать, что один хотел доказать другому, что тоже может стать ему равным, осуществиться, но, как оказалось, порыв есть порыв, а осуществление - постоянное движение. Но человек этот не хотел обсуждать дела давно минувших дней, он жил теперь в иных мирах, об этом болела душа его.
Жил он, как все видели, холостяком, инженерил, изобретал всякие штуки, иногда даже получал за изобретательство деньги и не прочь был почудачить. Зовут этого самоуглубленного человека Кузьмой Бенедиктычем. Он теперь совсем уже не молод, и никто бы не сказал, что был он когда-то женат. Я бы первый бросил куда-нибудь камень за такие подозрения. И каково же было мое изумление, когда он однажды сам поведал мне о женитьбе на девице странной и таинственной. Это совершенно особая история, таких ещё не было под солнцем, и, проявив уважение к личности Бенедиктыча, я должен изменить своим принципам и выписать её подробно. Тем более, что он пока опять засел за свои, одному ему понятные чертежи, и потому образовалась явная брешь в сюжете и водворилась затишье в политической борьбе.
Как мне рассказывал Бенедиктич, "в лужу" он сел (то есть женился) давно, год не помнит, а помнит, что был тогда молод и горяч, претендовал на грандиозную судьбу, на известность и прочую чепуху. Но претендовал тайно, так скрытно, что и сам об этих притязаниях не знал. Те причуды его характера, которыми он сейчас блещет, составляли в то время главную достопримечательность его личности. Он мог спать, где попало, есть, что попало, сутками не смыкать глаз, то вдруг педантично заботиться о внешнем виде, а то доводил носки до железобетонного состояния, и можно подозревать, что это он прыгнул с белого теплохода, хотя и Леонид Павлович прыгнуть тоже мог. Тем более, что он тогда Кузьме все чего-то доказывал. Они оба тогда писали тенденциозные рассказики и по традиции русских юношей замахивались на устои. И, естественно, обожглись, после чего Кузьма с особым упоением занялся современной музыкой, самовнушением и самим собой. Веры, как известно, во все времена маловато, а в те - особенно не хватало. И Кузьма пошел к себе, а не в магазины, где, к тому же всегда были очереди. Равнодушный ко всяческим мирским соблазнам, он, однако, мог по долгу обсуждать и социальные тонкости, и новые прически, причины роста и понижения производительности труда, и разбирался даже в таком понятии, как рентабельность. Строев заслушивался, когда Кузьма фантазировал о будущем комфорте, о чудесах электроники и грядущего сервиса. Но на деле он оставался безразличным к любым переменам и сервису. Что-то начинало грызть Кузьму. И изменись мир - он все равно остался бы устремленным к чему-то иному, отстраненному от общих страстей, обсудил бы новшества и сказал бы: "мо тань го ши" - китайскую фразу, запомнившуюся из банальной брошюрки, а, сказав, вновь бы вернулся к себе, чтобы проверить: подействовали ли эти новшества на его неведомый внутренний мир. Кузьма вырабатывал ценности. Из сотен тонн породы - крупицы истины и смысла. Этот мучительный процесс бросал его во всевозможные крайности, душа жаждала меры, отвержение и принятие выкладывали ступени чего-то великого и главного, от чего можно будет оттолкнуться и полететь.