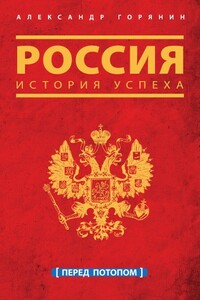Традиции свободы и собственности в России | страница 4
Характерно, что в русском языке столь же древним словом является «воля», лишенное отрицательной коннотации. У «свободы», наряду с коннотацией положительной (статус свободной личности, свобода поступать по своему усмотрению, суверенитет, самостоятельность — или, по Пушкину, «самостоянье человека — залог величия его»), есть и отрицательная: это «свобода от» — от подчинения, зависимости, тягла, постоя, пут, уз, обязанностей, наказания, налогообложения. «Воля» этих двух оттенков не знает. Невозможно представить, чтобы в языке возникали понятия, лишенные соответствий в жизни.
Думаю, неспроста именно в России родилось одно из самых замечательных высказываний на эту тему: «Чувство личной собственности столь же естественно, как чувство голода, как влечение к продолжению рода» (П.А. Столыпин).
* * *
Странно, но никто, кажется, не заметил, что написанные в 60-е–начале 70-х труды Пайпса представляют собой выражено ревизионистскую версию российской истории. Почему-то повелось считать, что альтернативные и ревизионистские истории — явление совсем новое. Не такое уж новое. Полноценно ревизионистская версия истории, все объяснившая борьбой классов и сменой способов производства2, была не просто предложена, но и, более 80 лет назад, сделана в СССР обязательной. Но что ревизовала та версия в своей российской части? Национальную русскую историю? Таковой по состоянию на 1917 год просто не было, как нет и сегодня. Было несколько виноватых «Историй России» (вспомним убийственную оценку, данную Львом Толстым соловьевской «Истории»3), явно или скрыто зависимых от европейских канонов, терминов, периодизации, оценок — короче, от «европейского аршина». Ален Безансон прекрасно знает, что имеет в виду, когда говорит: «Для российской историографии характерно то, что с самого начала, т.е. с XVIII века, она в большой мере разрабатывалась на Западе»4. И разрабатывается доныне: восприятие Пайпса в качестве серьезного историка — тому пример.
Совестливая (даром, что «разрабатывалась на Западе») русская историография (как и русская литература) так и не смогла стать буржуазно-охранительной, в чем ее главное, почти роковое, отличие от западноевропейской. Блестящие (действительно!) русские историки выявляли и накапливали факты, расширяли научную базу, но к моменту революции даже еще не начали возводить на этом фундаменте нечто, сравнимое по любви к предмету изучения с «Историей Франции» Жюля Мишле5.
Но если советская ревизионистская история ревизовала ревизионистскую же профессорско-либеральную историю, что же ревизовала последняя? Всего лишь предварительный (крайне предварительный) набросок национальной русской истории. Этот набросок проступает, начиная со «Степенной книги» (1563) митрополитов Макария и Афанасия (идея Москвы как преемницы Киева, идея перемещения княжения и переезда столицы), его пытаются набрасывать Федор Грибоедов, Иннокентий Гизель и еще несколько самоучек XVII века. Работу продолжили другие самоучки — времен Петра и его преемниц. Этот эскиз развивали затем Прокопович, Татищев, Ломоносов, Щербатов, Болтин, но более или менее параллельно с ними за дело взялись приглашенные в петербургскую Академию наук немцы. Байер, Миллер, Шлецер несомненно заслуживают уважения, но русскую историю они излагали на немецкий лад.