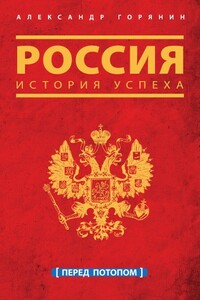Традиции свободы и собственности в России | страница 26
В случае покупки торгового свидетельства крестьянин мог заниматься и внешней торговлей, и это положение не осталось на бумаге. В «Мыслях на дороге» Пушкин приводит слова своего дорожного попутчика — что характерно, англичанина (дотошные пушкинисты выяснили, что звали этого человека Colville Frankland и что он жил в России в 1830-31 годах): «Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу... Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать… О его смышлености говорить нечего. Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? Вы не были в Англии? — Не удалось. — Так вы не видали оттенков подлости, отличающих у нас один класс от другого. Вы не видали раболепного maintien Нижней каморы перед Верхней; джентльменства перед аристокрацией; купечества перед джентльменством; бедности перед богатством; повиновения перед властию... А нравы наши, a продажные голоса...»27. (К продажным голосам мы еще вернемся.)
Уж на что карикатуристом русской жизни был барственный Н.А. Некрасов, но и он не удержался в рамках однажды найденного и хорошо продававшегося обличительного пафоса28. В романе «Три страны света» (1848) он вполне убедительно показал могучий дух предпринимательства, пропитывающий Россию. Как хотите, господа, но мы изначально промышленная (в старинном смысле этого слова) и торгово-предпринимательская нация.
Несколько убогих авторов (пусть завеса жалости скроет их имена), уверяющих в наши дни, что русским чужда предприимчивость, сами явно никогда ничего серьезного не предпринимали, не имеют понятия, что это такое. Давайте вспомним освоение Сибири. Для того, чтобы освоить, обстроиться, укрепиться29, наладить сообщение, связь, управление, торговлю, денежное обращение, налоги, поставки всего необходимого, организовать фактории по сбору пушнины, бивня и прочих ценностей, их хранение, охрану и доставку в Россию — и все это на совершенно исполинских просторах (еще раз взгляните, как выглядит Россия на глобусе), надо было обладать предпринимательским духом не просто пассионарным, а прямо-таки сверхъестественным. Процитирую Валентина Распутина, мне не сказать лучше, чем он: «Уму непостижимо! Кто представляет себе хоть немного эти великие и гиблые расстояния, тот не может не схватиться за голову. Без дорог, двигаясь только по рекам [уточню: в основном, по притокам главных рек, ибо сами главные реки текут на север, а двигаться надо преимущественно на восток – А.Г.], волоком перетаскивая с воды на воду струги и тяжелые грузы, зимуя в ожидании ледохода в наскоро срубленных избушках в незнакомых местах и среди враждебно настроенного коренного кочевника, страдая от холода, голода, болезней, зверья и гнуса, теряя с каждым переходом товарищей и силы, пользуясь не картами и достоверными сведениями, а слухами, грозившими оказаться придумкой, нередко в горстку людей, не ведая, что ждет их завтра и послезавтра, они шли все вперед и вперед, все дальше и дальше на восток. Это после них появятся и зимовья на реках, и остроги, и чертежи, и записи “расспросных речей”, и опыт общения с туземцами, и пашни, и просто затеси, указывающие путь, — для них же все было впервые, все представляло неизведанную и опасную новизну»30. Добавлю лишь, что действовать и поступать так могут лишь свободные люди — подневольным такое не дано.