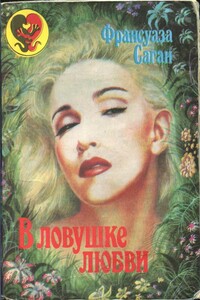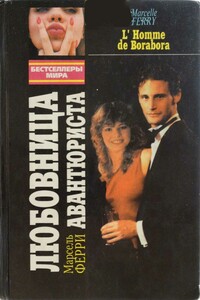Синяки на душе | страница 32
Красное февральское солнце укладывалось на ночлег за черные деревья. Бедная писака наблюдала в окно, как кончается в Нормандии день. Вот уже двое суток, как ей не удалось написать ни слова. Ей наверняка было очень грустно. Пытаться писать без всякого результата – все равно, что заниматься любовью, не получая удовольствия, пить, не пьянея, путешествовать, никуда не приезжая. Это был ад, провал. Одиноко проходили дни, похожие друг на друга, а неподвижное время, наконец успокоившись, несло тихую нежность, почти экстаз. Но надо было продолжать жить и все-таки работать и в какой-нибудь день вернуться в Париж, найти «остальных». Надо было взять себя в руки. Но утреннее солнце было прекрасно, земля пахла прохладой, собака часами играла с палкой, а пламенеющие деревья что-то шептали в том же ритме, что и чтение толстого английского романа, так неосторожно начатого. Взять себя в руки… От этого она чувствовала себя несчастной. И то правда: так мучительно, когда приходится насильно брать себя в руки. Когда ей было восемнадцать лет, она написала прелестную французскую диссертацию, которую опубликовала и которая снискала ей известность. Она не желала ни в чем видеть трагедию и ничего не принимала всерьез: писать для нее уже заранее было удовольствием. И вот прошло еще восемнадцать, и она вынуждена принимать всерьез себя самое, если не хочет, чтобы ситуация, в которой оказалась она и ее маленькая семья, кончилась трагически. И нате вам, у нее нет никакого желания писать. И вот уже угрызения совести мучают ее, потому что она ничего не сделала «в такой-то день». В ее поэтические мечтания вторгаются сюжеты о налогах, долгах и прочих зловещих вещах. Пусть все идет как идет, пусть будет как будет, как можно меньше проблем, пусть другие рисуют наш портрет-робот, пусть все идет своим чередом: время, деньги и страсти, а ты сидишь перед онемевшей пишущей машинкой, как усталый бухгалтер. И все время, как повторяющийся аккорд, глупый внутренний смех над собой. Насмешка. Что ж, она готова согласиться с тем, что она водит машину босиком – кстати, на пляже все ходят босиком, потому что песок попадает в обувь и это неприятно, – и она готова согласиться с тем, что виски – один из самых вредных ее вассалов, потому что не так уж сладка жизнь у этих созданий с полуободранной шкурой, которые называются людьми. Что ж, пусть так! Но она никогда ничего не простит себе, потому что нет человека, похожего на нее и достойного того, чтобы простить себя, глядя на него. Самое большее, что она могла бы – при определенных обстоятельствах и под влиянием страсти, под прикрытием темноты и с подлинным смирением, – попросить прощения у кого-то, кто был обижен ею. Но делать то же самое по отношению к этой милой кривляке, за которую ее принимали и которой она, впрочем, и была, порой не отдавая себе в этом отчета, это уж дудки, нет и еще раз нет! Надо уважать свои изображения, может быть, даже больше, чем самого себя, – свойство, присущее каждому из нас. Это придает гордости. И чувства юмора.