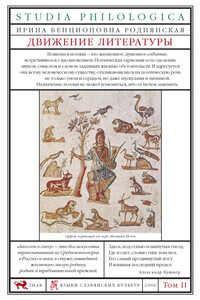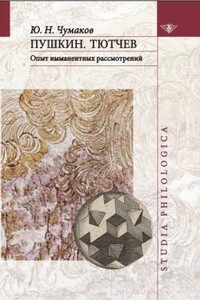Письма о русской поэзии | страница 77
2 сентября 1932[142]
Ангел явлен не в высших сферах и не на божественной фреске какого-нибудь Джотто, а в простой комнате, рискуем думать – спальне, если герой еще не успел снять свадебного галстука. Но влетает малютка в брачную ночь в окно по какой-то неведомой нам роковой ошибке. Прелестный ангелочек похож на ижицу, у которой действительно нет ножек. Он страшен и уродлив, он в безумной тревоге. В ужасе прижавшийся к стене герой больше всего опасается, что этот горний гость коснется его. Ничего хорошего это не сулит. Страшно и тому, и другому. Это существо, еще не вышло из зародышевой стадии, да и может ли выйти? Дитя лаборатории и колбы, этот небесный гомункулус все делает не так: во-первых, как недозрелый плод, он не должен был появляться раньше срока, во-вторых, прилет его – в знак Благовещенья и непорочного зачатия, о котором он вряд ли может напомнить. Набоков разыгрывает каламбур брака – таинства, которое свершается на небесах, и изначальной порчи и абортированности существования.
Но вернемся к «Пассажиру».[143] Рассказ переиначивает фабулу «Крейцеровой сонаты» Толстого. Некий писатель повествует попутчику-критику о своей дорожной встрече, но целью рассказа является даже не встреча, а природа самого рассказа, вернее – жизнь, которая даст фору любой литературе (это самое начало рассказа): «Да, жизнь талантливее нас, – вздохнул писатель, постукивая картонным концом папиросы о крышку портсигара. – Иногда она придумывает такие темы… Куда нам до нее! Ее произведения непереводимы, непередаваемы…» (2, 480). Одно из таких непереводимых произведений жизни и передается писателем: «Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне. Я очень люблю дорожное новоселье, – холодноватое белье на койке, фонари станции, которые, тронувшись, медленно проходят за черным стеклом окна.
Было мне приятно, помнится, что надо мной, на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под затылок руки, – и легкость узкого казенного одеяла была прямо-таки сладостна после пухлости отельных перин. Помечтав кое о чем, – мне о ту пору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц, – я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он – этот старый, хорошо вам известный прием. «Среди ночи я внезапно проснулся». Впрочем, дальше следует кое-что посвежее. Я проснулся и увидел ногу.