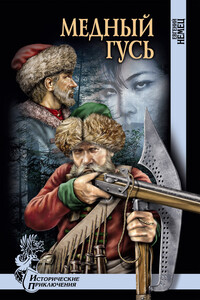Кокон | страница 41
Антон замолчал, задумчиво помешивая в стакане коньяк. Янтарная маслянистая жидкость сыпала яркими бликами.
— Подозреваю, что твои натурщики считали тебя сволочью, — сделал я предположение. — Как же они соглашались тебе позировать?
— О, да! — согласился Антон с улыбкой. — Но я у них не спрашивал.
— Полная сволочь, — поставил я диагноз, но сделал это с любовью — этот парень мне определенно нравился. У впечатлительной Лены передёрнулись плечики. Я пояснил. — Ты не только выставляешь на всеобщее обозрение потаенные грани человеческих душ (во загнул!), ты еще и получаешь от этого эстетическое удовольствие. Есть в этом что-то извращенное, мне кажется. Недаром от твоих картин веет жутью. В них ты ломаешь кокон уже не людям, но реальности вообще.
— Иначе, Грек, не добраться до самого главного, — невозмутимо ответил художник.
— А что есть главное? — спросил я с иронией.
— Гармония, — очень серьезно ответил Грувич. — В любом её проявлении.
— Гармония — слишком размытое понятие для моих мозгов компьютерщика. Что-нибудь бы по-конкретнее, а? Вот, скажем, каким бы ты нарисовал меня?
Я спросил это скорее в шутку, с иронией, но взгляд Антона стал отстраненным и глубоким; мне вдруг почудилось, что я стою январским вечером на Оби, слева и справа ледяная пустыня, взморщенная гребнями торосов, а передо мной прорубь с черной мутной водой, в которой я отчаянно пытаюсь что-то рассмотреть… Может быть, свою судьбу?
— Я вижу тебе сидящим в позе мыслителя Родена, — бесстрастно начал художник Грувич. — Твоя грудь вскрыта, в ней огромная дыра, в левой руке ты держишь свое окровавленное сердце, в правой — окровавленный нож, а твои глаза полны слёз и отчаянья.
В наступившей тишине я услышал, как пораженно выдохнула Лена. Мне же… мне расхотелось пить французский коньяк, я поспешно взглянул на часы, порывисто встал.
— Если ты это когда-нибудь нарисуешь, я поломаю тебе ноги! — достаточно агрессивно пообещал я, но Грувич был невозмутим.
— Пошли, что-то мы засиделись, — бросил я Лене и порывисто направился к гардеробу.
— Будешь в Москве, заходи, подарю тебе изображение истинного Грека, — догнал меня голос Грувича, когда я надевал пальто. И, чёрт возьми, в этом голосе не слышалось иронии или насмешки, Антон был абсолютно серьезен.
Уже на улице, пройдя быстрым шагом пару кварталов, и чуть ли не таща Лену за руку, я начал понемногу успокаиваться. Легкий снег неспешно ложился на тротуар, на массивные деревянные скамьи на черных кованых ножках, на лоток бронзового торговца, продававшего бронзовые флаконы, рядом с которым я остановился. Лена молчала, но в её молчании отчетливо слышалось ехидство, что-то вроде: «Так тебе и надо!», или: «Хамство наказуемо!». Проклятье, мне немедленно требовалось выпить!