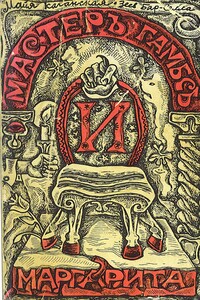Тихий Дон против Шолохова | страница 35
И по высеву для садилок:
11-рядной….3 гектара.
13-рядной….4 гектара.
17-рядной….4 гектара.
При общем наличии в Гремячем Логу 184 пар быков и 73 лошадей план весеннего сева не был напряженным. Об этом так и заявил Яков Лукич…»
Это что такое?! Что за жанр такой? Да ведь это - протокол! Ей-Богу - протокол. Общего собрания колхозного актива.
И, главное, никаких сомнений в авторстве. Почему? А потому, что биографы раскопали самый ранний образец шолоховской прозы - об установлении величины посевов, каковая величина устанавливалась:
«путем агитации в одном случае, путем обмера - в другом и, наконец, путем того, что при даче показаний и опросе относительно посева местный хуторской пролетариат сопротивопоставлялся с более зажиточным классом посевщиков».
Это произведение хранится в Шахтинском филиале Госархива Ростовской области (фонд Р-760, ед. хр. 209, л. 13 об.) и представляет собой обязательный реферат, который 16-летний Миша Шолохов писал, обучаясь в феврале-апреле 1922 года на курсах продинспекторов*.
*Палшков А. Молодой Шолохов (по новым материалам). - «Дон», 1964, № 8, с. 170; Воронин В. Юность Шолохова (Страницы биографии 1905 - 1928 гг.). - «Дон», 1985, № 5, с. 159.
Читая такое, испытываешь гордость за Шолохова, и через 10 лет не изменившего своей творческой манере. С другой, правда, стороны, будит это чтение какое-то бешенство, когда тебя уверяют, что протокол, реферат и «Тихий Дон» выводила одна и та же рука.
Но вот Солженицын в третьем томе «Очерков литературной жизни», десять страниц посвятив разбору этой литературной завали и тому, как послушно исполнял Шолохов социальный заказ, вдруг восклицает: «А пейзажи?…такое нечасто и во всей русской литературе найдешь»*.
Тут же и пример: «Под самой тучевой подошвой, кренясь, ловя распростертыми крылами воздушную струю, плыл на восток ворон. Бело вспыхнула молния… уронив горловой баритонистый клекот… сквозь оперенье его крыл со свистом и буреподобным гулом рвется воздух… сухим треском ударил гром…»
И не один такой пейзаж в книге. Нет - вот и «месяц золотой насечкой на сизо-стальной кольчуге неба», лиса мышкует, конь без всадника, могильный курган…
«Впрочем, - спохватывается Солженицын, - с этими пейзажами - такая странность. Замечаешь: а почему ж эта великолепная туча никак не связана ни с настроением главы? ни с окружающими событиями? как будто она и не намочила никого?.. Ее можно перенести на несколько глав раньше или позже - и так же будет стоять…»