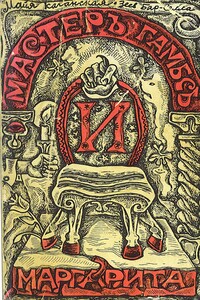Тихий Дон против Шолохова | страница 21
[…] Кривошлыкову не дали закончить речь: табурет вылетел из-под ног […] Сухой мускулистый Кривошлыков долго раскачивался, то сжимаясь в комок так, что согнутые колени касались подбородка, то вновь вытягивался судоргой… Он еще жил в конвульсиях, еще ворочал черным, упавшим на сторону языком, когда из-под ног Подтелкова вторично вырвали табурет. Вновь грузно рванулось вниз тело, […] и опять кончики пальцев достали земли».
Детали данного описания мы отыскиваем в литературе 10-х годов:
«Когда Петр перекинул веревку через толстую ветвь раскидистого клена, […] и быстро повернувшись к нему правым плечом, р в а н у л е е в н и з, собака, вздернутая на дыбы, с у д о р о ж н о скорчив передние лапы, сделала усилие удержаться на взрытой под кленом з е м л е, но повисла, едва к а с а я с ь е е. Ч е р н о - лиловый я з ы к ее в ы с у н у л с я, обнажились в гримасе коралловые десны, дневной свет, отраженный в потухающих глазах виноградного цвета, стал тускнеть.
- Теперь молчи, не вякай, - сказал Петр, любивший шутить сумрачно».
Процитированный отрывок взят из рассказа Ивана Бунина «Последний день», опубликованного впервые в петербугской газете «Речь» (1913, № 47, 17 февраля), а затем включенного в авторский сборник «Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912 - 1913 гг.» (М., Кн-во писателей, 1913; по «Книжной летописи» проходит 9 - 16 декабря). Сборнику был предпослан эпиграф: «Не прошла еще древняя Русь…» (И. Аксаков).
В. Кранихфельд в рецензии на сборник немедленно отметил, что Бунин «цепко держится за корни жизни и, питаясь их целебными соками, продолжает неизменно расти в своем здоровом творчестве…» («Современный мир», 1913, № 11). Иная точка зрения была высказана А. Дерманом («Русское богатство», 1914, № 2), обратившим специальное внимание на рассказ «Последний день»:
«Да, все это правда: и коралловые десны, и черно-лиловый язык, и глаза виноградного цвета, но за этими частными правдами чувствуется какая-то большая общая неправда, которой невольно и законно сопротивляешься: «неправда» Бунина - тот общий фон, на котором он пишет свои частно-правдивые (не всегда, впрочем) детали, а фон этот какое-то рассудочное и холодное отношение к изображаемому миру».
Слова «деталь» и «фон» достаточно ясно указывают на то, что критик противопоставляет Бунину как образец правильного подхода к делу - да впрочем, Дерман этого и не скрывает - Чехова, который раньше Бунина открыл «зверства и жестокости» русской деревни, однако у Чехова была «правда в фоне», которой у Бунина нет.