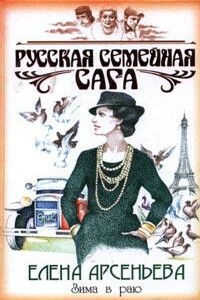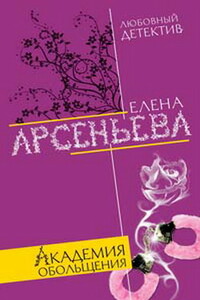Царственная блудница | страница 96
Кто знает, может быть, Линару удалось бы добиться, чтобы невинная дева таки совратила б его, греховодника, однако, по несчастью, камер-юнкер Брылкин оказался неосторожен. Кто-то из друзей завистливо спросил, как так вышло, что он махом расплатился со всеми долгами и новых не делает, хоть живет на широкую ногу. Дело происходило в кабаке. Брылкин оказался во хмелю несдержан на язык, и, пусть говорил больше обиняками, два-три из них оказались весьма прозрачны. Поползли слухи, которые дошли до Бирона.
Он ринулся с докладом к любовнице.
Анна Иоанновна была на расправу коротка. Она не проводила никакого дознания. Она просто припомнила томный, отсутствующий вид племянницы, ее вечное таинственное шушуканье с гувернанткой, сопоставила это с частыми визитами саксонского посланника во дворец, а также с упорным нежеланием Анны выбрать себе жениха, – и грянула гроза.
Однако гроза была тихая, приватная, можно сказать, домашняя – дабы не нанести урона доброму имени Анны Леопольдовны.
Мадам Адеркас как иностранная подданная не была ни бита, ни искалечена – ее просто выставили из России. Камер-юнкер Брылкин отправился в ссылку в Казань, благодаря бога за то, что сохранил ноздри, уши и язык (и за меньшие провинности, случалось, оные рвали либо урезали!), а также саксонские денежки, предусмотрительно припрятанные загодя. До дрезденского двора была доведена мысль о настоятельной необходимости срочно отозвать посланника графа Линара.
И вот в один печальный-препечальный вечер, когда трое китайцев в своих юбках-шароварах и черных шапочках-домиках с шариками наверху представлялись императрице и делали прелестные комплименты царевне Елисавет, опухшие от слез глазки Анны в последний раз взглянули в затуманенные черные очи Мориса Линара.
Он тоже искренне страдал, но и сам затруднился бы определить, от чего сильнее: от разлуки ли с русской принцессой – или от провала своей дипломатической миссии.
А впрочем, одно было неотделимо от другого.
Однако Анна Иоанновна, которая все же была прежде всего женщиной, а уж потом государыней, не могла так просто проститься с этим исключительным красавцем, а потому сделала ему не только обычный подарок как отъезжающему из страны посланнику, но еще и сняла с пальца драгоценный перстень.
Санкт-Петербург, дом английского посла Гембори,
1755 год
Ночь близилась к исходу, и Никита Афанасьевич Бекетов наконец упал на разостланный на полу плащ. На его кровати лежала одетая в обычное мужское платье Афоня, а около кровати стоял небрежно уложенный сундук с ее вещами. Походный солдатский сундучок Бекетова находился тут же. Оба они были почти пусты – здесь лежали только те вещи, с которыми они приехали в Санкт-Петербург месяц назад. Все купленное и сшитое в столице было ими с брезгливостью отброшено, как если бы это были некие одежды, в которых мортусы ухаживают за чумными больными. Мортусы сжигают потом свои зараженные балахоны, так же и Бекетов с Афонею с радостью отдали сжечь свои наряды, лишь бы очиститься от той гнусности, которой натерпелись нынче вечером на пресловутом приеме в честь помолвки, а главное, после оного приема, когда Гембори патетически заявил, что помолвку можно считать расторгнутой.