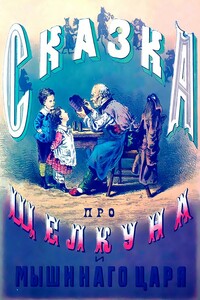, какая Эльба, что все резиденции и барокко против унылых полчищ недужных и калек, а когда наконец они вышли и оказались на улице, их волновал только один вопрос: «Куда? Я же хочу пойти с вами, плевать, что вы обо мне подумаете, хочу — но куда?» Только не в госпиталь, где ее беспрерывно лапают и тискают, в любом углу, в коридоре, в туалете, в процедурной и даже в операционной, как она это ненавидит, нет, лучше уж в меблирашку, она согласна, лишь бы с ним наедине, да, наедине, чтобы только она и он, он и она, одни, прочь от всей этой серой толчеи, от войны, которой все равно конец, — разумеется, он знал, что «такие комнаты» есть, немудрено, когда кругом столько солдатни, и найти «такую комнату» оказалось куда проще, чем он, ударившись в панику, поначалу думал. Были и зазывалы, они работали за скромный процент — калеки, ветераны, туберкулезники; завидев парочку, они подходили и шепотом спрашивали: «Гнездышко ищете?» Да, они искали гнездышко, разумеется, цены были разные в зависимости от комфорта и, конечно, от времени: «На час, на два или до утра?» Да, до утра, им досталось гнездышко с оленьими рогами, репродукцией Дефреггера
[31] и портретом Катарины фон Бора
[32], вполне приличная комната, даже не грязная и даже с умывальным столиком. «Гнездышко» — какое ласковое слово среди всей этой военной мерзости. Он ждал слез, но слез не было, только потом, когда она заговорила о брате Генрихе, который пал смертью храбрых, а он о брате Хансе, который тоже пал, и тоже смертью храбрых. Слезы были потом, сперва был только страх из-за того, что она «такая неопытная», ведь она рассчитывала на его «опыт», а выяснилось, что вовсе он не такой уж «опытный», как о нем болтали во всех окрестных деревнях; как прекрасно было видеть ее наготу, не стесняясь своей наготы, и вовсе она не оказалась неопытной, скорее уж это он от радости был тороплив и неловок, тут было над чем посмеяться, а заодно и поговорить о славе ловеласа, которая иной раз достается вовсе не по заслугам, — можно было посмеяться будущему, посмеяться над ее изумлением тому, что у него действительно есть звание доктора; он не мог насытиться ею, смеялся без конца, не мог насмотреться — о, эти лампочки в двадцать пять ватт, кто их только выдумал, — в ее глаза и никогда не забудет оленьи рога, репродукцию Дефреггера, Катарину фон Бора и прелый запах осенней листвы из окна, распахнутого во двор...
На следующее утро, сдав обходной листок, он попросту увез ее с собой, просто взял и увез, прочь от этих «нацистов и протестантов», и они приехали к ее отцу, которому все же удалось спасти от кредиторов теплицу и при ней две комнатенки, железную печурку и тахту; то-то смеялся старик, увидев, что дочь вернулась «с тем самым Тольмом», это надо же, «с тем самым», да еще объявила, что они помолвлены; крепко зажав трубку своими щербатыми зубами-огрызками, старик смеялся от души, а потом без церемоний, с тем же веселым смехом, принял в подарок табак, который они привезли. В подобных трудных случаях старая графиня была незаменима, у нее был телефон, она знала нужных людей, ей срочно понадобилась работница, ведь она уже на костылях, а ее хозяйство «имело военное значение» — из-за леса, овощей и картошки, которыми был засажен весь парк; словом, графиня вызволила Кэте, наняла ее в работницы и сказала: «Фриц, я всегда надеялась, что ты все-таки стерпишься с моей Герлиндой, но ты нашел себе получше, добрую, умную, красивую, да к тому же и веселую, как поглядишь — прямо душа радуется». Уже в ноябре там же, в Блюкховене, они расписались.