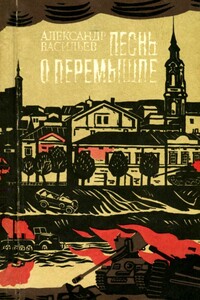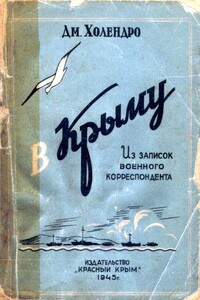Прикосновение к огню | страница 74
Эта песня была напечатана в одном из последних июльских номеров газеты. Вот ее полный текст:
Я знал почти наизусть этот текст, но никогда не слышал, чтобы где-нибудь исполнялась песня. Однако находились люди, которые утверждали, что она пелась на фронте, звучала даже на улицах Берлина вскоре после окончания войны. С ней будто бы шел строй наших фронтовиков-гвардейцев где-то в районе Бранденбургских ворот…
Кто мог лучше ответить на все эти вопросы чем сам автор!
Но при встречах с поэтом все никак не решался к нему подойти. Не знаю, что мне мешало — его всенародная слава или его вечная занятость, следы которой проглядывали на его лице. А в последние годы вдруг появились тревожные слухи о его тяжелой болезни…
Но вот получил письмо из Ворошиловграда от юных «следопытов» молодежного клуба «Бригантина». В письме ребята спрашивали о судьбе этой песни. Видимо, «следопытов» интересовали те же вопросы, что и меня.
И вот еще одна встреча с поэтом.
…Произошло это на съезде писателей России, когда после заключительного заседания делегатов и гостей пригласили в Кремлевской Дворец Съездов на прощальный банкет.
В огромном зале собрались сотни лдодей. Царила праздничная, приподнятая атмосфера.
Вдруг какой-то странный шелест прошел по залу. Все зашевелились и повернулись к дверям, разговоры стихли, слышалось лишь одно слово: «Он… он!» И тут я снова увидел поэта. Он пробирался между столами, высокий, грузноватый, опираясь на палку. Его крупное с неправильными чертами лицо было словно иссечено морщинами, особенно возле глаз, но сами глаза, небесно-голубые, зоркие и отчаянные, и задорный полуседой хохолок еще выдавали в нем бойца.
Со всех сторон к нему тянулись руки. Слышались голоса: «К нам! К нам!» Он устало улыбался и, прижимая к груди букет красных гвоздик, кого-то высматривал.