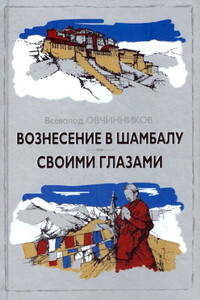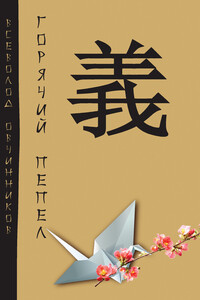Калейдоскоп жизни | страница 46
Шел первый год моей заграничной жизни. Я начал работать в Китае и впервые приехал с женой в Шанхай. У входа в магазин «Дружба» к нам подошел пожилой человек.
— Услышал русскую речь и решился попросить об одолжении. Не могли бы вы купить мне три куска мыла? Я тут же с вами рассчитаюсь. (Покупать товары в «Дружбе» могли только иностранцы.)
Я выполнил просьбу, но местный консул настоятельно рекомендовал мне впредь не вступать в контакты с «белогвардейцами» (как тогда у нас называли русских эмигрантов).
Недавно в нашей печати появилось слово «возвращенец». Я искренне рад, что это новое понятие входит в обиход, что среди тех, кто по разным причинам покинул страну до или после краха советской системы, появились желающие вернуться на родину.
Никогда не забуду зал русского эмигрантского клуба в Шанхае 50-х годов. По моей просьбе посольство многократно поручало мне выступать там на праздничных вечерах. Перед каждой такой встречей, по традиции, заводили старый граммофон. И у седовласых людей на глазах навертывались слезы от песни Петра Лещенко:
Многих наших соотечественников забросила на чужбину гражданская война, другие попали туда как «перемещенные лица» после нацистских лагерей, третьи остались за кордоном как диссиденты-невозвращенцы. А после распада СССР за пределами своего отечества вдруг оказались двадцать пять миллионов русских.
Родина безусловно обязана помнить о зарубежных соотечественниках, проявлять к ним внимание и заботу, удовлетворять их культурные запросы, содействовать стремлению молодежи получить образование на родном языке. Но есть и другая сторона вопроса. Мировой опыт свидетельствует, что зарубежные общины могут оказывать своей исторической родине неоценимую помощь, быть для нее дополнительным генератором роста. К сожалению, специфика нашей истории такова, что, начиная от белоэмигрантов времен гражданской войны и вплоть до диссидентов 60-80-х годов, любой соотечественник, поселившийся за рубежом, считался отщепенцем, предателем. Даже контакты с ним в советские времена были недопустимы, а уж сотрудничество — тем более.
Наверное, именно из-за такой исторической инерции даже в постсоветский период желание различных поколений нашей диаспоры использовать во благо России свои возможности осуществляется пока непростительно мало. А ведь и зарубежные предприниматели российского происхождения, и «новые русские», осевшие за рубежом, могли бы с выгодой для себя содействовать расширению деловых связей с Россией. Никто из зарубежных конкурентов не сравнится с ними в знании нашей действительности, в понимании российского менталитета.