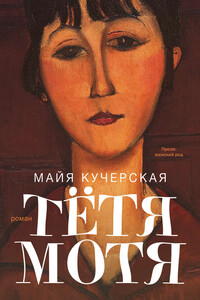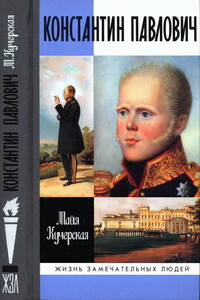Наплевать на дьявола: пощечина общественному вкусу | страница 72
И все они – беженцы, швейцарские полицейские, Ксенофонт, Юрьева, а потом вообще уже неизвестно кто (потому что допросы постепенно перетекают в бесконечные диалоги, проходящие вне времени и места, пиры, на которых пируют два сознания, две души), так вот, все они без умолку говорят. И всех их внимательно слушает толмач, и все за всеми записывает. Как он записал, так мы и прочли. Правда – не правда – неважно. Позже оказывается, например, что одна из историй, рассказанных на допросе, про сожженный в Чечне дом и расстрелянных мать и брата, может, и случилась на самом деле, да только не с тем, кто ее рассказал, он же просто понадеялся, что чужие беды проведут его в швейцарский рай. Все равно: не запиши толмач всего этого, не было бы вообще ничего.
Итак: «Венерин волос» – роман о человеческом рассказе.
При таком-то писательском мастерстве Шишкин действительно легко смог бы «сымитировать» кого угодно – хоть Бунина, хоть Набокова, хоть Сашу Соколова, только ему это совершенно не нужно. Подобно лингвистам, выстраивающим действующую компьютерную модель языка с тем, чтобы лучше понять, как устроен язык реальный, Шишкин тоже создает художественный двойник речи с похожей целью: выяснить, как эта речь и чужое слово устроены. И устное, и письменное. Поэтому Изабелла Юрьева пишет дневник – свой рассказ о жизни. Поэтому так легко впущен в роман Ксенофонт-летописец. Не входи он в войско, никаких подробностей о мучительном походе греков в Азию мы никогда бы и не узнали, как, кстати, и не узнали мириады историй – лишь оттого, что они никем не были записаны. Потому и письма толмача сыну Навуходонозавру, эти фантасмагорические письма в никуда, так необходимы, толмачу тоже важно рассказать, как и где он живет-поживает.
В романе есть одна поразительная и многое объясняющая сцена. Девушка, которую любил в юности толмач, работающая в университетском виварии, напоминает ему в их воображаемой беседе: «Я должна была топить щенков, и ты мне стал помогать: в ведро мы налили воду, бросили щенков и другим ведром с водой поскорее накрыли, вдавили, так что вода плеснула через край, обмочив нам ноги. Я крепилась, но все равно потекли слезы. И ты сказал, чтобы утешить: „Ну что ты, не плачь! Все это можно будет потом куда-нибудь вставить в какой-нибудь рассказ”».
Нет ничего проще, чем обвинить толмача в том, в чем активно обвиняют самого Михаила Шишкина: любая боль для него – лишь материал для словесных коллажей, пусть и очаровывающе красивых. Но посмотрите, как реагирует на утешение участница этой сцены, сама девушка, толмача искренне любившая: «Ты сказал такую несуразицу, что меня всю внутри пронзила такая острая жалость, такая любовь к тебе, что захотелось твою голову прижать к груди, затискать, как ребенка». Девушка, в отличие от обвинителей Шишкина, хорошо понимает, кто перед ней. Перед ней жрец слова, сознающий одно: что не будет записано, умрет. И потому все важное, болезненное, невыносимое, радостное должно быть запечатлено в слове, тогда оно не умрет уже никогда: «словом воскреснем», как сказано в эпиграфе.