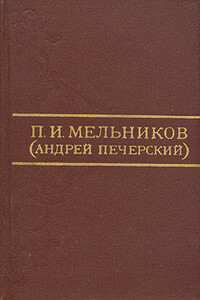Очерк жизни и творчества | страница 8
В 1839 году в Петербурге начал выходить обновленный журнал «Отечественные записки», издатели которого — А. А. Краевский и В. Ф. Одоевский — не уставали напоминать о своей былой близости к Пушкину и о своей решимости бороться против Булгарина и его союзников — Н. И. Греча, состоявшего так же, как и Булгарин, в связи с тайной полицией, и О. И. Сенковского — ловкого, но беспринципного журналиста и критика, редактировавшего тогда самый распространенный журнал — «Библиотека для чтения». Именно в «Отечественных записках» Мельников и напечатал в 1839 году свое первое произведение — «Дорожные записки». Он сотрудничал в «Отечественных записках» вплоть до 1844 года, то есть как раз в те годы, когда этот журнал под руководством Белинского стал трибуной революционной мысли. Едва ли можно говорить о том, что Мельников тогда принимал революционную проповедь Белинского, но его сочувствие литературно-эстетическим взглядам великого критика не подлежит никакому сомнению. Крупные, принципиального характера литературно-критические статьи, печатавшиеся в те годы на страницах «Отечественных записок» (а все они принадлежали перу Белинского), Мельников считал прекрасными.[5]
Сочувствие борьбе Белинского за укрепление реализма сказалось и на первых беллетристических опытах Мельникова.
Литературные взгляды Мельникова формировались в период обостренной борьбы между реализмом и романтизмом. В тридцатых годах XIX столетия были созданы такие шедевры реалистической литературы, как «Повести Белкина», «Медный всадник», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» — Пушкина; «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», «Невский проспект», «Коляска» — Гоголя; «Песня про купца Калашникова» и «Герой нашего времени» — Лермонтова. Эти произведения знаменовали собой решительную художественную победу реализма. Однако это вовсе не означало, что реализм уже в те годы стал господствующим направлением в литературе. Большинство писателей принадлежало тогда еще не к реалистическому, а к романтическому направлению. Писатели-романтики тех лет в большинстве своем принадлежали к реакционным общественным кругам и вполне сознательно выступали против правдивого изображения жизни. Однако к этому направлению примыкали и такие литераторы, которые по своим политическим взглядам ничего общего с правительственной реакцией не имели. Среди этих немногих литераторов наиболее талантливым и влиятельным был А. А. Бестужев-Марлинский.
В первой половине двадцатых годов Бестужев был виднейшим критиком и теоретиком романтизма. В те годы он писал и романтические повести. После поражения декабрьского восстания Бестужев, как один из активнейших его участников, был сослан в Якутск. В 1829 году он был переведен рядовым на Кавказ, и ему разрешили печататься, правда, под псевдонимом (Марлинский). В повестях тридцатых годов Марлинский стремился проводить те же идеи, что и в своем додекабрьском творчестве. Но если за протестом героев его ранних повестей чувствовался подтекст общественного подъема преддекабрьской поры, то в тридцатых годах этого подтекста не было, и поэтому обличительные филиппики его героев этого времени часто сбиваются на простое резонерство. Повести Марлинского стояли вне процесса демократизации тематики и стиля русской литературы тех лет — процесса, начало которому положили Пушкин и Гоголь и который в конкретной литературной практике проявился прежде всего во внимании к жизни рядовых людей, ко всему, что связано с этой жизнью, что непосредственно влияет на нее. Это и было причиной того, что Белинский, признававший незаурядный талант Марлинского, относился к его творчеству тридцатых годов отрицательно. Особенно последовательно он боролся против риторической напыщенности стиля повестей Марлинского. «Ни одно из действующих лиц его повестей, — писал великий критик, — не скажет ни слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммой или с каламбуром, или с подобием; словом, у г. Марлинского каждая копейка ребром, каждое слово завитком».