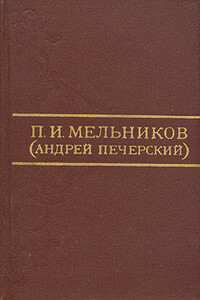Очерк жизни и творчества | страница 39
Конечно, «даль свободного романа» — да еще такого масштабного — нельзя было заранее ясно «различать» во всех подробностях. Но, не составив предварительного представления о конфликтах, которые должны образовать основу будущего произведения, нельзя было приступить к работе над ним, потому что художник, если он действительно художник, а не протоколист, осознает жизнь прежде всего в порождаемых ею конфликтах.
Когда речь заходит об основном конфликте романа Мельникова, необходимо иметь в виду следующее. Действие романа происходит в конце 40-х — начале 50-х годов, когда внимание всего русского общества было приковано к отношениям крепостного крестьянства и помещиков. А ни в одной из частей произведения о крепостном праве почти и не упоминается. Однако это вовсе не говорило об ослаблении ненависти Мельникова к «помещичьему духу». Дело в том, что тема романа (в литературе чаще всего именно так и бывает) определена не временем действия, а временем написания. Мельников-беллетрист еще за десять лет до отмены крепостного права обратил внимание на нового «господина». В «Старых годах» он уже отметил: владения князей Заборовских переходят в руки Кирдяпиных, наследников бывшего кабацкого подносчика. Но в предреформенную пору Мельникову еще, по-видимому, было неясно, насколько быстро новый «господин» займет место старого. Это еще одна причина — и едва ли не главная, — задержавшая работу над романом на целых десять лет: к 1868 году первенствующее положение русской буржуазии в экономической жизни страны обозначилось вполне определенно.
В 70-е годы это общественное явление стало одной из центральных тем передовой русской литературы. «Современники» Некрасова, «Бешеные деньги», «Волки и овцы» Островского, «Благонамеренные речи» и «Убежище Монрепо» Салтыкова-Щедрина, «Подросток» Достоевского, «Мещане» Писемского — вот далеко не полный перечень крупнейших произведений, посвященных в те годы приходу «чумазого», как назвал русского буржуя Щедрин. В этом ряду и книга Мельникова. Он не ограничивается изображением нравственной физиономии «чумазого», а стремится выяснить влияние новой общественной силы на жизнь народа.
В финале романа есть такой эпизод. На супрядках у Акулины Мироновны заговорили о приданом Дуни Смолокуровой, которого, по слухам, было не на одну сотню тысяч.
«— Сто тысяч! — воскликнула Акулина. — Вот где деньги-то! У купцов да у бояр, а мы с голоду помирай! Им тысячи — плевое дело, а мы над каждой копейкой трясись да всю жизнь майся. А ведь, кажись, такие же бы люди.