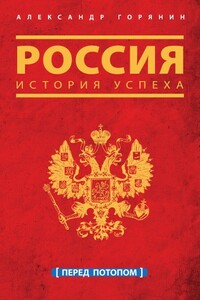Мифы о России и дух нации | страница 41
(З.Виноградов, А.Касаев, А.Серенко, Независимая газета, 25.7.97)? И чуть ли не с детства каждый слышал, что «Керенский А.Ф. учился в симбирской гимназии вместе с Ульяновым В.И.» . (В.Алексеев, Журналист, № 6, 1997), не так ли? На самом деле одиннадцатилетняя разница А.Ф. и В.И. в возрасте сразу исключает их соученичество,[39] а про то, что волжская эпопея немцев началась на двести лет позже (в 1764), легко узнать в энциклопедии. То, что легко опровергнуть, не может стать мифом. А вот утверждения вроде: «Царь продал Аляску на 99 лет, а не вернули нам ее потому, что большевики в 1917-м отказались платить царские долги» или: «Своим врагом номер один Гитлер считал диктора Левитана» уже ближе к настоящему мифу, поскольку проверить их сложнее. Подобные мифы возникают более или менее случайно и носят разнонаправленный характер.
Зато не бывает случайной система положительных мифов. Они — часть всякого национального сознания. Если бы не существовало положительных мифов, история не стала бы школьным предметом (сразу вспоминается: «Битву при Садове выиграл прусский школьный учитель» ). В любой стране школьники учат историю, мифологизированную именно для своей страны (см.: М.Ферро «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» , пер. с франц., М., 1992). Школьная история — как правило, и есть основной национальный миф. Он непременно приписывает позднейшие национальные идеи тем, кто жил задолго до их появления, и этим превращает броунов хаос лиц и событий в осмысленный путь к решению вековых государственных задач, в успешную шахматную партию против остального мира.
Основной миф состоит из мифов поменьше, и каждый из них необходим для духовного здравия нации, ибо рассказывает о ее трудном и славном пути, о тяжких испытаниях, могущественных, но поверженных (или еще не поверженных) врагах, о беспримерном мужестве своих героев и коварстве соседей, то есть обо всем, что превращает перемещение народа по оси времени в его Историю. От всякого мифа требуется, чтобы он выполнял свою воспитательную задачу, а было ли дело триста либо семьсот лет назад именно так или чуть иначе — какая, мол, разница? Даже бесспорные события можно сложить как в одну, так и в другую мозаику, поставить в разные причинно-следственные зависимости — получатся разные мифы. В том смысле слова, о котором идет речь, типичный миф — чаще всего не вымысел с начала до конца, а скорее «подгонка под ответ» (как говорили в школе) особым образом отобранных фактов, хотя есть, конечно, и мифы, не опирающиеся ни на какие факты.