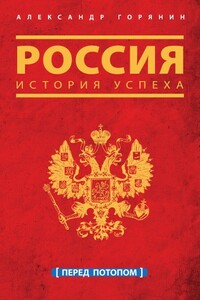Мифы о России и дух нации | страница 19
Говоря о советских временах, этнолог В.Тишков[11] подчеркивает: «Советский человек был очень частным человеком, и именно это обстоятельство пропустила наша экспертиза, увлекшись анализом мира пропаганды и верхушечных установок». Даже немного странно, что это надо кому-то доказывать. Всякий, кто наблюдал жизнь не из кабинетов Старой площади, знает, что русские хоть и участливы, но при этом до такой степени не коллективисты, что это можно рассматривать как врожденное народное свойство (известный недостаток, если хотите). Кто этого не учитывал, всегда обжигался — как Александр I с его «военными поселениями», задуманными по образцу коммун. Провал усилий сделать коллективное сельское хозяйство рентабельным был наиболее явным именно в РСФСР. Не во всех прочих республиках колхозы оказались столь же безнадежной затеей. Форм вполне успешного общинного хозяйствования в мире не так уж мало и сегодня. Это мексиканские «коммуны» и «эхидо», израильские «кибуцы», японские «сонраку», шведские «коллективы», итальянские «арки». В России же, как было упомянуто выше, не выжили даже полезные пережитки общинной жизни, подобные узбекскому хашару или белорусской толоке.
Когда газеты у нас начинают обсуждать межэтнические отношения, сразу выясняется: читательская масса, не подозревающая о том, что наши обществоведы постановили считать нас народом с общинной психологией, держится как раз противоположного убеждения. Всего одно читательское высказывание: «У русских нет традиции жить и работать этническими, земляческими общинами, а напрасно!» (Московские новости, 24.5.98). По контрасту, наш простой человек сразу подмечает в других народах (почти во всех) такую черту: «Эти-то, — говорит он, — подружнее наших будут». Подружнее, значит, пообщиннее по сравнению с нами.
В последние годы россияне стали бывать за границей, и те, кто ездили не в составе туристских групп, а гостили у друзей или родни, почти наверняка замечали вокруг себя наличие общинной жизни. Самые настоящие общины, весьма властно ведающие массой вопросов (они могут, например, запретить хозяину дома продать его нежелательному, на взгляд общины, лицу), действуют в тех новых, иногда обнесенных оградой поселках для людей среднего класса, где все дома сперва одновременно возводятся, а затем более или менее одновременно заселяются — в Испании такие поселки зовут urbanizationes, в Англии, кажется, developments. В США я слышал от наших евреев, переселившихся в эту страну, что они находятся под опекой местной еврейской общинны. В маленьком итальянском городке улица (т. е. община соседей