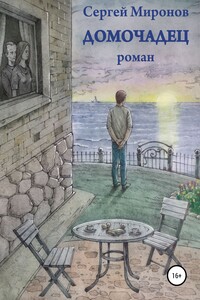Жора Жирняго | страница 29
Вирши его были такими, какие все филологи пишут, а вот проза со временем пошла изумительная. К этому времени (то есть к тридцати годам) он был вхож во многие салоны, но как бы еще безгласен. Проза его напечатана тоже еще не была, отлеживалась в письменном столе (читанная лишь очкастой молчаливой женой), но зато внешний облик Джорджа значительно уточнился, утончился и походил (по мнению искушенных окололитературных дам) на таковой у Георгия Иванова: рот такой же красный и мясистый, отпускающий вполне уже полнокровные остроты, глаза чуть сонные, бархатно-барственные и как бы подслеповатые — волос, правда, гуще, холеней, чем у автора шедевра «А люди? Ну на что мне люди?..», но было в лице у Джорджа еще то, чего не было у Иванова: нечто добродушное, лошажье (не конское и, сохрани бог, не блаженно-большевистское, пастернаковское, а именно лошажье), что впоследствии, к сожалению, обвально переродилось в корыто-лохань.
Нравился он окололитературным дамам страсть, но дамы те, несмотря на лютый демографический перекос, к Джорджу подбиваться не смели (т. е. не предлагали, скажем, ни борщочка домашнего на ночь глядя, ни починку электророзетки, etc.): он был — наследственный граф и профессорский наследник, они — разночинки, эмэнэсы, библитекарши; он был удачно и прочно женат — они были бобылки, матери-одиночки, разведенки; он всегда был центральный персонаж любого вечера, настоящий автор (это чувствовалось бесспорно), они были — увы, статисты, аудитория, массовка.
Наконец Джорджа напечатали. Это был год, когда никто ничего толком не знал о стиле, потому что какой там стиль в предбаннике морга. Но стиль появился: Джордж привнес стиль. И было это не особо трудно, потому что роль выгодного контраста сыграл общелитературный фон — серый, как заношенные солдатские портянки. Интеллигенция обеих столиц утоляла свой духовный глад «дискуссионной» перепиской пещерного шовиниста, всеми уважаемого питекантропа, — с юношески взволнованным евреем-просветителем (который, на взгляд Тома, мог бы найти более достойное применение своему краткому земному времени). В этих эпистолах питекантроп играл ерническую роль Ивана Грозного, ну а еретик-еврей (с тщетной пассионарностью призывавший мыть руки перед едой) — глумливого и, главное, безнаказанного западника Андрея Курбского. То есть поразительная неприхотливость и неразборчивость тогдашней «продвинутой» публики, с лютой голодухи жадно глотавшей эти скучные и гнусные, коммунально-барачные словопрения (видимо, принимая их за современные «Беседы Гете с Эйдельманом»), обеспечила книге Георгия Жирняго фанфары, фурор, триумф — а заодно и мгновенный миф о том, что — вот видите! — яблони могут вполне цвести и на временно неплодородном Марсе.