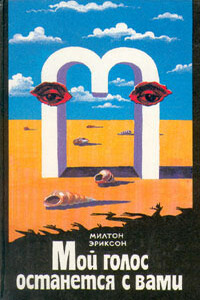На весах Иова | страница 66
Так или иначе, в автобиографиях не больше «правды», чем в биографиях. Кто хочет «правды» — тот должен научиться искусству читать художественные произведения. Трудное это искусство — недостаточно быть грамотным, чтоб уметь читать. Потому так ценны сохранившиеся после автора черновые наброски. Иной раз эскиз, даже наскоро занесенная на бумагу, едва зародившаяся мысль больше говорит, чем законченное художественное произведение: человек не успел еще приспособить свои видения к «общим» требованиям. Нет подготовляющего начала, нет разрешающего конца. Резкая и обнаженная мысль стоит перед вами, как утес над водой, во весь свой естественный рост, и некому «оправдывать» ее в ее грубом своеволии — нет ни самого автора, ни услужливого биографа.
Оттого я так долго останавливаюсь на незаконченных и необработанных "Записках сумасшедшего". В своих законченных произведениях Толстой настойчиво проводит ту мысль, что он считает дело здравого смысла — своим единственным жизненным делом, что вся его задача — дать людям веру в здравый смысл. И только раз, в наброске, он позволил себе назвать то, что происходило в его душе, настоящим словом. "Они признали меня — в здравом уме, но я-то знаю, что я сумасшедший". Это признание открывает нам доступ к наиболее важным и значительным переживаниям Толстого.
Не следует, однако, забывать, что даже в последние годы жизни Толстого «сумасшествие» не было постоянным его душевным состоянием. Оно только временами «находило» на него; он то жил в своем «особенном» мире, то в "общем для всех". Придут вдруг, неизвестно откуда беспричинные, безумные страхи, раскинут, перебьют, переломают все сокровища и уйдут тоже неизвестно куда и так же внезапно и неожиданно, как пришли. И тогда Толстой снова нормальный человек — такой же, как и все, только с некоторыми странностями и чудачествами, слабо и отдаленно отражающими пережитые бури или предчувствие будущих новых потрясений. Отсюда и неровности в его характере и деятельности, отсюда и постоянные «вопиющие» противоречия, которые с таким злорадством подчеркивали его многочисленные недоброжелатели. Толстой «боялся», больше смерти боялся, — своего безумия, но вместе с тем всей душой ненавидел и презирал свою нормальность. И его беспокойная, порывистая непоследовательность говорит нам больше, чем выдержанная и рассудительная твердость тех, кто его обличал.
Многие, чтоб успокоить себя и отделаться от той тревоги, которой они невольно заражаются, читая произведения Толстого, пытаются объяснить все борения его малодушным страхом перед смертью. Им кажется, что такое «объяснение» избавит их навсегда от трудных вопросов и вернет прежние права обиходным ответам. Способ не новый, но надежный. Его еще Аристотель формулировал, твердой рукой проведший ясную и отчетливую линию, определяющую пределы человеческих исканий. Не нужно подходить к последней тайне, нельзя давать мыслям о смерти право владеть человеческой душой.