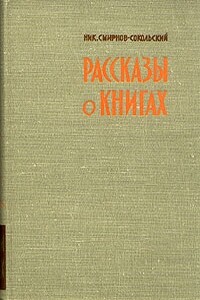Сорок пять лет на эстраде | страница 30
«Оторванные от исполнителя, все эти примеры, перенесенные графически на бумагу, не дадут и сотой доли того впечатления, которое производят они в устах самого исполнителя. Более того, они могут создать просто неточное представление и о литературной ценности отдельных отрывков.
Здесь выступает на сцену специфика эстрадного искусства вообще. Слова оживают только в устах исполнителя. Согретые искренностью, темпераментом, правдивостью, присущей только данному артисту, они в устах другого исполнителя приобретают другую весомость, другую ценность, а часто и другую окраску.
Это касается и драматургии в целом. Редкая пьеса — равноценна в чтении и исполнении… К репертуару эстрадника это относится особенно. Я всегда был ярым противником печатания своих фельетонов, уговорить меня не удавалось вообще. Считаю себя правым. Стенограммы речей ораторов не дают представления о полноте ораторского искусства…» (письмо датировано 24 августа 1948 года).
И все же нарушение авторской воли Смирнова-Сокольского, так упорно и настойчиво возражавшего против печатания своих фельетонов, представляется в данном случае не только заслуживающим снисхождения, но и настоятельно необходимым.
Спору нет — далеко не все, совсем не все в эстрадном наследии Смирнова-Сокольского, особенно начального периода, выдерживает испытание временем, и претензии литературного порядка могут быть предъявлены к немалой части исполнявшегося им когда-либо. Вместе с тем трудно согласиться с той огульной дисквалификацией всего ранее написанного, какую неожиданно произвел он сам в статье 1948 года.
«Смирнов-Сокольский — счастливый автор. Что Смирнов напишет, то Сокольский тут же примерит — выходит или не выходит. И не только счастливый, но и вовсе неплохой автор Смирнов-Сокольский, — писал еще в 1934 году, когда артистом только что был выпущен «Разговор человека с собакой», Эм. Бескин. — Вот передо мной его последние фельетоны. Их можно и читать про себя, как литературу. Они живы, остроумны. Улыбаешься. Чего же еще? Значит ли это, что они не подлежат критике? Подлежат каждый раз, конечно. Но все же это настоящая эстрадная литература. Дефицитный товар. Эстрада, поднятая до литературы, и литература, приспособленная к эстраде. В этом весь секрет».
Весной 1926 года, публикуя в ряде столичных журналов и газет открытое письмо в защиту авторского права эстрадника, где он отстаивал право эстрадного актера на монополию исполняемого им репертуара («Индивидуальный репертуар для меня — единственное средство производства!..»), Смирнов-Сокольский утверждал (неоднократно повторяя это и в дальнейшем): «Мастерство исполнения в данном случае на втором плане, а на первом — безусловно «что»…»