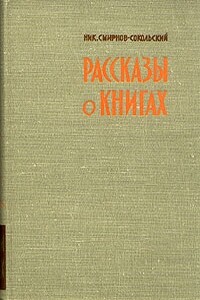Сорок пять лет на эстраде | страница 28
Сила и своеобразие жанра, который с начала 30-х годов и стал все более определять самобытный творческий почерк Смирнова-Сокольского как автора и исполнителя, как раз и заключались помимо прочего в этой жанровой полифоничности решения основной публицистической задачи, в органичности сплава в его фельетонах и сатиры, и юмора в самых различных их разновидностях, и патетики, и лирики, и — когда была в том нужда — риторики, и — в соответствии с внутренней необходимостью — говорящей за себя документальности, наглядности факта как такового. Без этого Смирнов-Сокольский и не стал бы Смирновым-Сокольским.
И тот же «Мишка, верти!», который не случайно открывает и закрывает в настоящей книге раздел, озаглавленный «Оружия любимейшего род», свидетельствует отнюдь не об иллюзорном начале «отхода от сатиры», а именно о самоутверждении оригинального публицистически-сатирического жанра, который и войдет в историю нашей эстрады под персонифицированным обозначением «фельетон Смирнова-Сокольского».
Что же касается ослабления на каких-то перевалах сатирической заостренности, то это было связано с теми общими явлениями литературного процесса, о которых недаром говорилось и в постановлении ЦК ВКП(б) о журнале «Крокодил» осенью 1948 года, и в известной редакционной статье «Правды» «Преодолеть отставание драматургии», направленных против лакировки действительности, сведения жизненных конфликтов к одной лишь борьбе хорошего с лучшим, и т. д.
Вопреки всем этим предостережениям, инерция прошлого продолжала, однако, сказываться вплоть до XX съезда КПСС, когда партия определила самый решительный поворот к преодолению недостатков и развертыванию подлинно большевистской самокритики. Пока же реальная практика сатириков и юмористов и на печатных страницах, и на сцене, и на эстраде нередко заставляла вспомнить крылатое юмористическое признание Ю. Благова: «Я за смех… Но нам нужны подобрее Щедрины и такие Гоголи, чтоб никого не трогали».
Но и в таких условиях Смирнов-Сокольский менее всего отказывался от оружия сатиры, нанося во многих случаях точные и меткие удары как по дальним зарубежным («Разговор с Христофором Колумбом»), так и по близлежащим целям.
Подтверждением этому могут служить хотя бы такие фельетоны, как написанный в первый послевоенный год «За все настоящее!» или фельетон 1953 года «Проверьте ваши носы!», где на помощь сатирику снова пришли неумирающие гоголевские образы, изобретательно и остроумно «повернутые на современность».