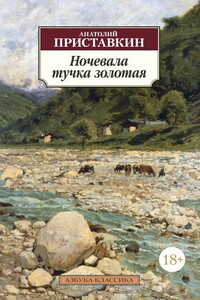Вагончик мой дальний | страница 50
Деревня спала. Лишь где-то на окраине взбрехивала собака. А я еще раз с удивлением прикинул, как это Костик, если подумать, совершил невозможное: из сотни домов разыскал дом Глотыча, а потом его баню…
Ему бы разведчиком на войне с таким нюхом!
— И долго будем молчать? — спросил я, напрягаясь.
— Да не молчу я, — прошептал он. — Слушаю. В избе что-то… Или кажется… Не пойму…
— Тогда скорей говори!
— Ладно, слушай, — сказал он. — Значит, она так пишет: «Дорогой Тоша! Милый мой, хороший… Спасибо за твои такие удивительные слова, за все, что ты мне написал. Я тоже боюсь, что, может, больше не увидимся, потому что эшелон могут отправить, когда захотят… Хоть завтра. А пока мы стоим тут — значит, мы рядом и у нас есть надежда. И хоть я пропела тебе про „тройку“ и увидела, что ты сразу понял, но бежать не могу, потому что не могу бросить Шурочку, без которой мне жизни, как теперь и без тебя, нет. Я ее не брошу, чтобы ты знал, никогда. Я ей и сестра и мать. А без меня она пропадет. Вот такая моя судьба, что я разрываюсь на части… И без тебя не могу, и без нее тоже. До свидания, мой любимый, пиши. Я верю, что мы встретимся, как бы ни повернулась судьба. Твоя Зоя».
В этот раз я не перебивал Костика. Слушал, прислонясь к косяку двери, у щели, и вдруг, сам не знаю почему, заплакал.
Я давно не плакал. Последний раз — когда маму хоронили. Но я был тогда, как чурка деревянная, как замороженный… Даже слез не было. И когда обмывали тело, а пьяненькие дядьки поднимали его на грузовичок, который тихо, без музыки довез нас до поселкового кладбища.
Но это было так давно, не знаю, когда. Был осенний день, шел дождь, а яма на кладбище была глубокой, красной от глины, которая прилипала к ботинкам и осыпалась под ногами. Незнакомые тетки сморкались в платки и велели мне бросить на мамку землю. И тут я ничего еще не испытал, только остались в памяти глухой звук земли, упавшей на крышку гроба, да торопливый звон лопат. А вот переломилось во мне, лишь когда вернулся домой и почувствовал острую боль в поддыхе. Вдруг осознал: один. Никому не нужен. Мне стало страшно, и я заплакал. Я спрятался в чулане, чтобы меня не увидели, среди каких-то бутылок и тряпья, там и просидел, пока шла в доме поминальная гульба.
Сейчас было по-другому. Я плакал от отчаяния, что меня снова, как в детстве, отделили от родного человека, и я его потерял. Потеряв один раз, уже знаешь, как страшно терять. Немца Ван-Ваныча жалко, он как дружок был. И теть-Дуню жалко, и ребят… Но без них я бы еще выжил, если что-то мне осталось. А без Зоеньки, я уже знал: не выживу.