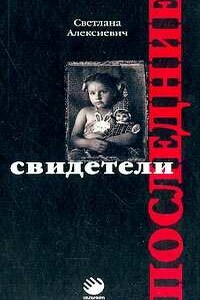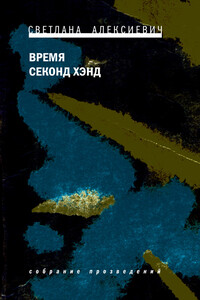У войны — не женское лицо… | страница 38
Смотрю теперь фильмы о войне: медсестра на передовой, она идет аккуратненькая, чистенькая, не в ватных брюках, а в юбочке, у нее пилоточка на хохолке… Ну, неправда!.. Разве мы могли вытащить раненого вот такие. Не очень-то в юбочке наползаешь, когда одни мужчины вокруг. А по правде сказать, юбки нам в конце войны только выдали, как нарядные. Тогда же мы получили и трикотаж нижний вместо мужского белья. Не знали, куда деваться от счастья. Гимнастерки расстегивали, чтобы видно было…»
Из воспоминаний минчанки Анны Ивановны Беляй, ветерана сорок восьмой армии:
«Бомбежка. Все бросились в овраг. И я бегу. Слышу чей-то стон: „Помогите…“. Но бегу… Через несколько минут до меня что-то доходит, я чувствую на плече санитарную сумку. И еще… стыд. Куда девался страх! Бегу назад: стонет раненый солдат. Бросаюсь к нему перевязывать. Затем второго, третьего…»
А Ольгу Васильевну Корж, санинструктора кавалерийского эскадрона, поразило то, что уже не поражало других, — убитый человек. Семнадцатилетняя девочка запомнила его на всю жизнь:
«На войне я думала: никогда ничего не забуду. Но забывается… А эту картину помню до мельчайших подробностей… Молодой такой, интересный парень. И лежит убитый. Я представила, что будут хоронить с почестями, а его берут и тащат к орешнику. Вырыли могилу… Бег гроба, без ничего зарывают в землю, прямо так и засыпали. Солнце такое светило, и на него тоже… Лето. Не было ни плащ-палатки, ничего, его положили в гимнастерке, галифе, как он был, и все это еще новое, он, видно, недавно прибыл. И вот так положили и зарыли. Ямка была очень неглубокая, только чтобы он лег. И рана небольшая, она смертельная — в висок, но крови мало, и человек лежит, как живой, только очень бледный.
За обстрелом нчалась бомбежка, и бомба попала в ящик со снарядами, эти снаряды рвались во все стороны… Самолеты висят над нами. Тут хотя бы в землю человека положить. А как мы в окружении людей хоронили? Тут же, рядом, возле окопчика, где мы сами сидим, зарыли — и все. Бугорок только оставался. Его, конечно, если следом немцы идут или машины, тут же затопчут. Обыкновенная земля оставалась, никакого следа. Часто хоронили в лесу под деревьями… Под этими дубами, под этими березами…
Я в лес до сих пор не могу ходить. Особенно, где растут старые дубы или березы… Не могу там сидеть…»
Начинают рассказывать тихо, а к концу почти кричат. Потом сидят подавленные, растерянные. И ты чувствуешь себя виноватой, знаешь, что уйдешь, а они будут глотать таблетки, пить успокоительное. Дочь или сын уже смотрят на тебя умоляюще, делают знаки: «Может, хватит? Ей нельзя расстраиваться…». И одно только тебе оправдание, что останутся их живые голоса, сбереженные магнитофонной лентой, и пусть хрупким, но все-таки более вечным, чем самая крепкая человеческая память, листом бумаги. Но все равно тяжело сидеть и слушать, а им рассказывать еще тяжелее.