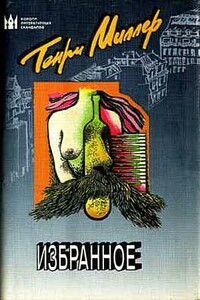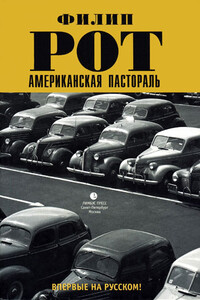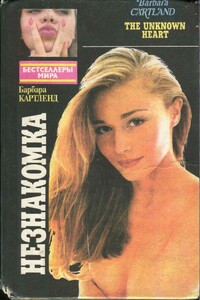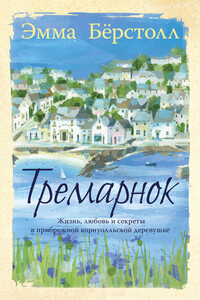Болезнь Портного | страница 4
Обитатели трущоб смеялись над отцом. Они не желали его слушать. Папа стучался к ним, а из-за дверей доносилось: «Пошел вон! Никого нет дома!» Они науськивали своих собак на папин настырный еврейский зад. И несмотря на это отец ухитрялся из года в год получать от Компании столько почетных значков, пергаментных свитков и медалей, которыми отмечались его достижения по продаже страховок, что призов этих хватило на всю стену нашего коридора, заставленного картонками с пасхальной посудой и зачехленными на лето в вощеную бумагу «восточными» коврами. Раз уж папа умел выжимать кровь из камня, то почему бы и компании не вознаградить его каким-нибудь чудом? Почему бы «Президенту» «штаб-квартиры» не прознать про папины достижения, и не превратить его в один вечер из агента с годовым жалованьем в пять тысяч долларов в окружного управляющего с окладом в пятнадцать тысяч? Но отца держали на прежнем месте. Конечно, — кто же еще добьется столь впечатляющих результатов на такой нищей ниве? Кроме того, за всю историю «Бостон энд Нортистерн» в компании не было ни одного управляющего-еврея (Не Совсем Нашего Круга, Дорогая, — как говаривали они на «Дне Ландыша»), а мой отец со своими восемью классами образования не совсем годился в Джеки Робинсоны от страхового бизнеса.
В нашем коридоре висела фотография Н. Эверетта Линдбэри, президента «Бостон энд Нортистерн». Этим снимком в рамочке папу наградили, когда он продал страховок на миллион долларов, — а может, и на десять миллионов. «Мистер Линдбэри», «штаб-квартира»… В папиных устах эти слова звучали как «Рузвельт» и «Белый дом», и в то же время… о, как он их всех ненавидел, в особенности Линдбэри с его шелковистыми пшеничными волосами и живой новоанглийской речью, с сыновьями в Гарварде и дочерьми-выпускницами школы. Всю эту массачусеттскую шатию-братию, развлекающуюся охотой на лис и игрой в поло! (Именно об этом он как-то раз орал ночью в своей спальне.) Всех этих шишек, которые, понимаете ли, не дают ему стать героем в глазах собственной супруги и потомства. Какой гнев! Какая ярость! А сорвать-то злость не на ком — разве что на себе: «Почему у меня запор? Я уже набит этим черносливом под завязку! Почему у меня болит голова?! Где мои очки? Кто взял мою шляпу?!»
Подобным свирепым, самоуничтожающим способом, столь характерным для евреев его поколения, отец изгалялся над собой ради мамы, Ханны, и особенно ради меня. Идея была такова: я смогу улизнуть из той клетки, в которую попался он. Я как бы служил логическим выводом всех его усилий: моя свобода освободит и отца — от невежества, от эксплуатации и от безвестности. До сегодняшнего дня в моем воображении наши судьбы тесно переплетены, и не раз, натыкаясь в какой-нибудь книге на пассаж, производящий на меня впечатление своей логикой или мудростью, я невольно тут же вспоминаю отца: «Если бы только он мог прочесть