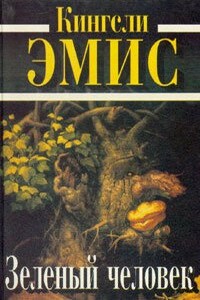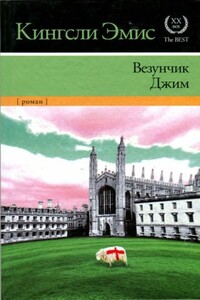Один толстый англичанин | страница 71
Он выбрался из постели и побрел к окну. Отсюда вид за окном представал совершенно другим. Все – дома соседей, лужайки, усеянные палой листвой, гравийная дорога, редкий соснячок – было залито солнцем, но выглядело каким-то тусклым, однообразным, словно покрытым тонкой желатиновой пленкой. Вокруг не было ни души.
Глубоко в носу возникло неприятное ощущение одновременно и щекотки, и жжения. Он осторожно потер нос, несколько раз сморщил лицо. Тихонько сунул мизинец внутрь. Сомнений не осталось – двойная ноздря нюхальщика табака, болезнь, при которой поверх слизистой образовывалась твердая острая корка. По опыту он знал, что это по меньшей мере на неделю. Придется пойти на жертвы и нюхать не так часто, как хочется, – видно, годы берут свое, – ведь это не оттого, что, допустим, вчера он перестарался. Тогда у Пэрриша, оставшись в одиночестве в споре по поводу британской позиции в вопросе ядерного сдерживания, он взял реванш и вернул или, по крайней мере, несколько подогрел интерес к своей персоне тем, что быстро извлек одну за другой все свои табакерки и прочел образцовую лекцию о нюхательном табаке: исторический обзор, тонкости выращивания, разнообразие смесей, анекдот о случайном открытии способа сверхсухой сушки и тому подобное. Он пресек попытку социолога перехватить инициативу рассказом про обычай капитанов пароходов, ходящих по Огайо, нюхать табак ртом и заставил того взять щедрую понюшку «Севильи», приговаривая: «Настоящий злой табачок – это то, что нужно, чтобы понять, что к чему» – и пока тот минут сорок никак не мог прочихаться, продемонстрировал, что его самого ничего не берет, дважды в течение одной минуты забив в ноздри чуть ли не по чайной ложке того же табаку. Все-таки эта «Севилья» – зверская штука. Он осторожно отколупнул ногтем корку в носу и смазал каждую ноздрю питательным кремом, который иногда, если не забывал, втирал перед сном в кожу вокруг глаз.
На часах было уже восемь. Он нехотя начал одеваться и немного оживился, только когда взял чистую рубашку в широкую сиренево-белую полоску, которую приготовил на сегодня. Она была постирана с вызывающей подозрение быстротой в крохотной прачечной за углом, рядом с домом, в котором он снимал квартиру, и упакована с невероятной тщательностью: картон, несколько слоев полиэтилена, булавки. Добрую минуту он раздирал, разворачивал упаковку, удивляясь собственному терпению и думая, в какую ярость пришел бы на его месте Джо Дерланджер, как бы он сейчас вопил. Роджер живо представил себе Джо на чудовищной вечеринке (Господи, ну почему всем им непременно нужно устраивать эти вечеринки? Почему они только и делают, что таскаются на них?), которую устраивал сегодня Эрнст. В Джо было что-то от ребенка – серьезный недостаток, – но он был блестяще образован, во всяком случае по американским меркам, а быстрота, с которой он выявлял всякого, кто мог пойти наперекор его желаниям, и бросался в бой, просто изумляла. Он никогда не забудет, как Джо обычно спорил с Грейс относительно времени и меню обеда, ни разу за весь вечер не повторившись в своих возражениях: то, мол, это будет слишком поздно, то – никаких чтобы новомодных французских изысков, то – чтобы не было опять гамбургеров, то – возможно, потом, после еще пары коктейлей, то – только с телячьими мозгами. Эти препирательства были сущим наказанием для любого гостя, поскольку, пока они продолжались, всем приходилось голодать. Даже Роджер не готов был платить такую цену.