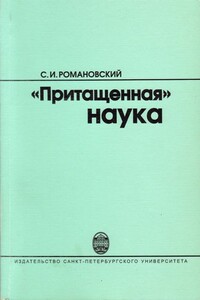Великие геологические открытия | страница 61
На уровне диалектики, думаю, и Лайель знал и принимал древнее, демокритовское: нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Но он не видел никаких реальных перемен в течение геологических процессов, а потому не мог принять эволюцию неорганического мира на веру. К тому же, когда к 40-м годам XIX века были выделены практически все основные геохронологические периоды последних 570 млн. лет геологической истории (фанерозой – эра явной жизни) и стало видно, что интенсивность геологических процессов не обнаруживает явной корреляции с геологическим возрастом, то выяснилось, почему Лайель так безоговорочно уверовал в правоту своей теории (ведь издания его книги продолжались) и почему его доктрина собрала под свои знамена так много приверженцев.
Единственное, что конечно же нельзя было класть на одну чашу весов, это равное безразличие Лайеля к эволюции как неорганического мира, так и органического. Если первое не вызвало чувствительного удара по его взглядам, то пренебрежение к эволюции живой природы подорвало веру в актуализм у многих естествоиспытателей.
Самое поразительное заключается в том, что Лайеля критиковали почти все его современники: одни за то, что он не сделал ничего особенного, – ведь актуализм как средство познания прошлого был известен задолго до «Основ геологии»; другие – потому, что природа не ложится в прокрустово ложе актуалистической доктрины; третьи (их большинство) – за неучет изменяемости геологических процессов во времени.
И только один ученый был преданным последователем Лайеля, даже его поклонником, никогда не изменявшим взглядам Лайеля. Имя этого ученого Чарльз Дарвин. Он же, кстати, заложил под лайелевский актуализм мину громадной разрушительной силы. Но об этом мы поговорим отдельно.
Д ве крайности
Не будем напускать тумана: две крайности в понимании мира геологической наукой – это актуализм и катастрофизм. Катастрофизм первым уже в XVII веке прочно утвердился на полке натуралистов и философов. В наши дни, уже в ином, разумеется, обличье, он вновь стал в центре внимания не только методологов геологической науки, но и действующих ученых-геологов, правда, уже под другим названием.
На самой заре геологии, когда у нее не было никаких познавательных возможностей, кроме неограниченных ресурсов «чистого разума» катастрофизм являлся единственным шансом естествоиспытателей. Действительно, как еще они могли истолковать Всемирный потоп; страшные извержения вулканов, в одно мгновение уносившие тысячи жизней; землетрясения, когда внезапно разверзшаяся земля поглощала целые города, как ни проявлением Божественной силы, карающей человека за грехи его. Наука, сама того не желая, погрузилась во мрак иррационального ужаса.