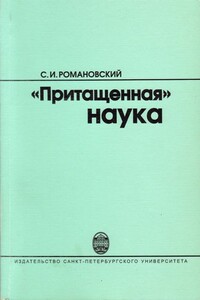Великие геологические открытия | страница 24
Под обаяние логики Декарта подпал и Вернадский. В 1886 г. он писал: «Давно пора подвести под математические выражения – строгие, ясные и изящные – реакции и формы земной коры, земной поверхности; так подвести, чтобы из одного, немногих принципов выходило многое. Но для этого надо много и долго еще учиться. Будем”. Не правда ли, это чистое, ничем не замутненное картезианство?
И в наше время, в начале 60-х годов XX века, новосибирские ученые, занявшиеся математизацией геологии (Ю. А. Воронин, Э.А. Еганов, Ю. А. Косыгин и др.) и вставшие на путь ее «глобальной формализации», вне всякого сомнения, были последователями Декарта. Однако и эта попытка, увы, ни к чему не привела. Да и пожелание Вернадского не было услышано.
В чем же дело? Почему уже три столетия естествоиспытатели, скорее всего, не читая самого Декарта, тем не менее верой и правдой служат его философской доктрине, идут по пути, им указанному, хотя путь этот чаще всего никуда не приводит. Не правда ли, это напоминает аллегорию древнекитайского философа Конфуция (551-479 г. до Р. X.) с черной кошкой, которую надо непременно найти в темной комнате, где ее просто нет.
Разгадка этого многовекового интеллектуального гипноза заключается, как мне кажется, в том, что Декарт нашел удачный инвариант научного познания мира. Если бы мы вдруг решились изложить этот инвариант сейчас как оригинальный, нас бы просто осмеяли, – настолько он прост и самоочевиден. Но тогда шел XVII век, причем перед ним был век XVI, когда за любые рассуждения, и уже тем более о научном методе, можно было поплатиться жизнью на костре священной инквизиции. Так что для того времени это было откровением.
Ну а кто и теперь откажется свести к простым и изящным зависимостям все многообразие окружающего нас мира? Вот и бьются наши современники, пытаясь найти однозначное соответствие между невероятной сложностью природных объектов и строгим аналитическим языком математики. В частных случаях это удается. Чаще – нет. Но и это не беда. Ведь наука складывается только из частностей.
XVII столетие – это, однако, не только Рене Декарт…
Великий англичанин Уильям Гарвей (1578-1657) известен в основном как автор открытия системы кровообращения у высших животных и человека. Но мы его вспомнили по другой причине. В 1657 г. он опубликовал свои наблюдения над условиями зарождения животных и растений. Загадка жизни – вот что занимало ум Гарвея. Его принцип: omne animal ex ovo («всякое животное – от яйца») – развил в 1668 г. флорентийский академик Франческо Реди (1626-1698). Он считал, что биогенез – это единственная форма зарождения живого. Omne vivum e vivo («все живое – от живого») вошло в историю науки как «принцип Реди». Это «первое научное достижение, которое позволяет нам научно подойти к загадке жизни», – так оценил вклад Реди в науку Вернадский.