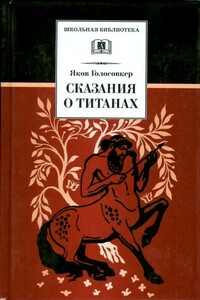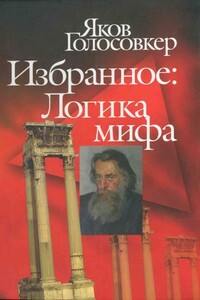Логика античного мифа | страница 29
Вывод: камень может передвигаться без механического воздействия на него.
Так были построены, по мифу, каменные стены Фив (в Беотии). Чудодейственный Амфион играл на волшебной кифаре, и камни, очарованные звуками кифары, передвигаясь, сами собой укладывались и воздвигали стены.
Еще пример отмены аксиомы силлогизма.
Только божественные существа (или бывшие боги) бессмертны. Живой человек – не божественное существо.
Тем не менее. Вывод: в мире чудесного некоторые человеческие существа при жизни бывают бессмертны. Например: Ганимед, Тифон, морской Главк. Обычный же логический вывод гласил бы: ни один человек при жизни не бывает бессмертным.
Необязательность аксиомы силлогизма для мира чудесного показывает, что если в мире чудесного (мифа) логическая последовательность мысли отрицается, то зато утверждается последовательность непоследовательных вещей и явлений, то есть последовательность непоследовательности.
Да и было бы нелепым искать в мифе последовательность и единство, присущие миру здравого смысла. Миф следует только логике «комбинирования» до полного исчерпывания возможных комбинаций, до замыкания логической кривой смысла в круг.
Амброзия дает вечную юность, жизненную силу (повышает тонус жизненный), красоту. Она исцеляет (болезни и раны). В этом смысле – она пища бессмертия. Но полубогу Тифону, возлюбленному Зари-Эос, получившему бессмертие от Зевса, амброзия не дает вечной юности. Почему? Потому что в мифологии возникла новая комбинация, новый сюжетный вариант на пути развития логической кривой смысла «бессмертие»: обретение бессмертия без вечной юности. И тогда свойства амброзии во внимание не принимаются, ибо богиня Эос выпросила у Зевса бессмертие, позабыв выпросить ему юность. Миф о них как бы забыл. Тщетно Эос обтирает и кормит своего возлюбленного амброзией. Он дряхлеет и ссыхается. Сила логики самой темы, смысл данной новой комбинации оказался сильней свойств амброзии (смысла пищи бессмертия) и самого бессмертия.
Последовательность логики здравого смысла чужда логике чудесного. Особенно в отношении свойств вещей она с точки зрения здравого смысла откровенно алогична. Это отчетливо проявляется там, где налицо количественные отношения: величина, мера, о которых миф забывает.
Геракл играет решающую роль при гигантомахии. Собственно говоря, это он, а не Олимпийцы, поразил гигантов при Флеграх на Горелом поле. Он вступает в единоборство с единичными гигантами, как атлет с атлетом, – например, с Алкионеем. Он замещает на время титана небодержателя Атланта в роли небодержателя, приняв на плечи столпы небесные. Атлант – сам по себе Гора. Геракл – далеко не гора. Он один из аргонавтов, гребцов на корабле Арго, и сидит на тех же скамьях, что и Ясон и Орфей. Пусть он самый рослый из них, но ему далеко до гиганта. Его жены – Мегара, Деянира, Иола – не гигантки. Перед Атлантом или Алкионеем Геракл уподобился бы Одиссею, стоящему перед циклопом Полифемом. И тем не менее Геракл выступает как противник гигантов и великанов и побеждает их в единоборстве. Такова логика мифа. Где логике мифа нужно, там она забывает о количественных соотношениях (о величине) и оперирует действующими фигурами так, как будто количественные взаимоотношения установлены правильно *. По существу, здесь борются два смысла, а не два героя: борется смысл «герой Геракл» со смыслом «гигант», а вопрос о соотносительной величине их тел снят. Для логики чудесного сюжета важна идея победы Геракла над гигантами. Поэтому смысл «победа» вытесняет необходимость или даже вовсе снимает всякое соотношение величин и мер, не усматривая и не желая замечать здесь несообразности, делающей невозможным такой акт, как единоборство Геракла с гигантом (или великаном). Важен смысл, а не зрительный образ. А если зрительный образ нужен, что ж! логика чудесного мгновенно Уравнивает силы, умаляя одну фигуру, увеличивая другую. Мы могли бы принять количественные отношения меры и величины в мифе за вечно переменные или вечно неопределенные постоянства, в тех случаях когда герой мифа, подобно оборотню, принимает в любой момент любую величину в зависимости от ситуации и противника. Но это означало бы требовать последовательности у логики чудесного, у которой, если и есть последовательность, то только одна: последовательность непоследовательности, то есть последовательность смысла внутреннего образа при непоследовательности внешнего образа, нечто вроде постоянства изменчивости у Гераклита, когда вечная текучесть существования является единым вечным неизменным смыслом или единственной константой бытия или его логосом (законом).