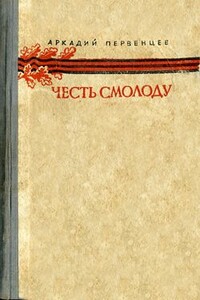Гамаюн — птица вещая | страница 27
Поликарп выбрался из подполья и отряхнулся. От него пахло сырой землей и соломой. Заплесневелые доски, будто тронутые изморозью, с торчавшими ржавыми гвоздями, лежали возле стенки. А ближе к выходу, освещенные неярким жаром русской печи, стояли незавязанные мешки с картошкой. Они, судя по ворчанию Антонины Ильиничны, мешали ей орудовать чугунками, противнями и рогачами, что она делала с искусной стариковской ловкостью, выработанной долгими годами непреложных женских забот. На ее воркотню великодушно не обращали внимания, хотя кое с чем можно было и согласиться. В самом деле, нельзя встречать сына в избе с развороченными полами. И Марфинька такого же мнения. Второй день дежурит она на бугре, у тропинки, ведущей через лес к станции, надеясь первой увидеть брата, первой броситься к нему на шею и с гордостью пройти по селу. Пусть выглядывают из окошек подруги, пусть выбегают к калиткам...
Поликарп сворачивал «козу» из «Крестьянской газеты» и хвалил:
— Прекрасное лежище оборудовал, Степан. Соломы аккуратно постелил. Сухая. Ни одного клубня не пропадет. Семенной Лорх отделил в сторонку, ближе к фундаменту печки, вы его до весны не трожьте...
— Скорее кончайте. — Антонина Ильинична оторвалась от печки, и Поликарп с приятным удивлением заметил на ее раскрасневшемся лице следы былой красоты.
— Ты погляди, Степан, Антонина-то... — Поликарп выпрямился, расправил плечи и, как говорится, тряхнул седыми кудрями. — Годы ее не берут.
— Полно тебе буровить, — сказал Степан Бурлаков, давно уже переставший любоваться своей одряхлевшей супругой. — Прошедшего дня не воротишь. У старости, как у осота, длинные корни...
— А помнишь фольварк, когда подтянули наш полк поближе к городу Кракову? Какие там батрачили полячки! — Поликарп подошел к печке, подцепил уголек и прикурил от него, держа черными, будто из чугуна отлитыми пальцами. — Представишь себе такую полячку и запрыгаешь на нарах, как сазан на песке...
— Брось, Поликарп! — Только на какой-то миг дрогнули мускулы на строгом землистом лице Степана Бурлакова. — Коли мерещится молодость, значит, чуешь старость...
Мужики оставили прошлое и принялись за настоящее. Степан до сих пор не мог решить труднейшего вопроса: почему и для кого учредили колхозы? Только было начали жить, привыкли к своим полоскам, распределили силы, семена не на года, а до конца жизни — и вдруг, будто пожар где-то вспыхнул, зазвонил колокол. Потащили добро, изломали, накричались вдоволь друг на друга, и пошло все как на юру. Штаны скинешь, решаешь вздремнуть — палкой стучат по забору, сзывают. Хочешь работать — приказывают: отдохни. Чего-то не ссучили вовремя, где-то лопнула нитка. Хорошо, выручил возраст, сослался на него, отошел в сторонку и погрузился в свой закуток, в картоху и моркву. За что упал с рассеченным черепом девятнадцатилетний Степка? Что ему хотел доказать корниловский офицер с черно-красными погонами? И того, видать, сбили наганом... Глядел потухающими глазами Степан Бурлаков на развороченный пол, на сырые, сопревшие доски, на картоху в мешках и думал только об одном: о корове. Пока только на ней сошлось все, что его еще волновало в этой серой действительности.