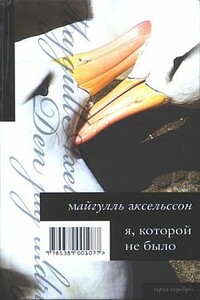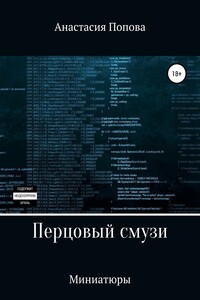Апрельская ведьма | страница 9
Но я все слышу. Вижу. И чувствую.
Я слышу, вижу и чувствую, хотя нити, целостные и нерасторжимые у других человеческих существ, во мне перетерлись и лопнули. Лишь несколько тоненьких волоконцев покуда соединяют мое истинное «я» с тем, что представляет собой мое тело. В моем голосе осталось три звука: вздох — когда мне удобно, стон — когда неудобно, и животный вой — когда больно. А еще я могу делать длинные и короткие выдохи в трубочку-мундштук, которые компьютер преобразует в текст на мониторе. Кроме того, пока еще могу, хотя это и стоит мне невероятных усилий, удерживать в левой руке ложку, опускать ее в тарелку, а затем подносить ко рту. Могу жевать и глотать. Вот и все.
Уж сколько времени я пыталась уговорить себя, что где-то внутри этого хаоса — моего тела — все же осталось некое ядро, в глубине которого я еще человек. Ведь у меня есть воля и разум, и сердце, которое бьется, и пара легких, которые дышат, и — не в последнюю очередь — есть человеческий мозг, обладающий такими удивительными способностями, что самой страшно. Но толку в этих бодрых увещеваниях было мало. В конце концов пришлось признаться себе самой, что я попросту попалась в хитросплетение обстоятельств, в паутину, которую Великий Насмешник распростер над миром. Это понимание крепло в течение последнего месяца. Иногда мне даже кажется, что Черстин Первая — Его посланница, такая маленькая паучиха Господня, — однажды подкрадется ко мне по этой паутине, чтобы растворить мои внутренности своей едкой слюной, а потом их высосать.
Что ж. Было бы логично. Но пока что этого не произойдет. У меня еще осталось два дела.
Во-первых, я желаю узнать, кто из моих сестер украл предназначенную мне жизнь.
А во-вторых, я желаю проводить на кладбище моего возлюбленного.
Лишь после этого я дам себя высосать.
Вот теперь я его слышу. Никто другой не открывает дверь в отделение так медленно, никто, кроме него, так не шаркает спросонок по коридорам. Сегодня он какой-то нерешительный, может, опасается, вдруг Черстин Первая выскочит со своей улыбкой и пути не будет.
Он ее называет Че-Один. В отличие от Че-Два.
— Она немыслимая, — говорит он. — Эти белые обтекаемые формы... Но елки-палки, она ведь из сливочного мороженого. Подогреешь ее — и ни цвета, ни формы не останется!
Самому-то ему уже мало дела до шелковистой кожи и упругих сухожилий. Наверное, это как-то связано с его возрастом. За последние годы его лицо похудело и осунулось, брови стали седыми и кустистыми, второй подбородок обвис, а мешки под глазами набрякли. Со временем на его рубашках появлялись все новые пятна, а брюки становились все мешковатей. Некоторые санитарки из смены Черстин Первой говорят, что он — мерзкий. Сама же она ограничивается тем, что держит дистанцию: стоит ему подойти слишком близко, как она поспешно отстраняется и запускает пальцы в свои длинные волосы, чтобы, не дай бог, не прикоснуться к нему.