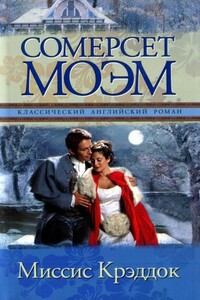Записные книжки | страница 99
Моя работа близко свела меня с чехами — вот чей патриотизм не перестает меня удивлять. Это страсть, столь цельная и всепоглощающая, что вытесняет все другие. На мой взгляд, эти люди, пожертвовавшие всем ради дела, должны вызывать скорее страх, чем восхищение. И ведь их не два-три фанатика среди безропотного быдла, а десятки тысяч; они пожертвовали всем, что имели, — покоем, состоянием, жизнью ради независимости своей страны. Порядок у них, как в универсальном магазине, дисциплина — как в прусском полку. Большинство патриотов, которых я встречал среди моих соотечественников, как это ни прискорбно, рвались служить родине не без выгоды для себя (кто способен описать эту охоту за теплыми местечками, интриги, злоупотребление положением, зависть к ближнему, на которые тратила время нация, когда само ее существование было под угрозой), чехи же совершенно бескорыстны. Они так же не думают о вознаграждении, как мать не думает о выгоде, ухаживая за своим ребенком. Чех охотно соглашается на рутинную работу, когда другим предоставляют увлекательную, на мелкую должность, когда других назначают на ответственные посты. Как у всех людей, интересующихся политикой, у чехов есть и партии, и программы, но у них все подчинено одной цели — общему благу. И вот ведь что удивительно: в огромной чешской организации, действующей в России, все, от богатейшего банкира до ремесленника, жертвовали десятую долю своего дохода на общее дело в течение всей войны. Даже пленные, а один Бог знает, как они нуждались в этих жалких грошах, собрали несколько тысяч рублей.
Девяностые обращались исключительно к уму, а ум — это проточная вода, которая очищает все на своем пути, нынешняя же литература обращается к сердцу, — а что это, как не колодец, в котором вода загнивает. Литераторы тех лет выставляли свое сердце напоказ, наподобие причудливой орхидеи в окне Соломона, у наших же современников оно покоится в полоскательнице. Может быть, это и глупость — ярко и ослепительно вспыхнув, сгореть, но что за скука — стать хлебной подливой.
«Анну Каренину» я прочитал еще мальчишкой задолго до того, как начал писать сам, впечатления о романе у меня сохранились самые смутные, и когда много лет спустя я перечел его, уже как произведение искусства, с профессиональной точки зрения, оно показалось мне сильным и неожиданным, но несколько суровым и не согретым чувством. Потом я прочитал «Отцов и детей» по-французски; я слишком мало знал о России и не сумел оценить этот роман; диковинные имена, необычные характеры настраивали на романтический лад, но, как и на многих тогдашних романах, на нем сказалось влияние французской прозы тех лет, во всяком случае, на меня этот роман большого впечатления не произвел. Позже, заинтересовавшись Россией по-настоящему, я прочитал и другие романы Тургенева, но они оставили меня равнодушным. На мой вкус, их идеализм был чересчур сентиментальным, красоту же тургеневского слога, столь ценимую русскими, я в переводе не почувствовал и счел их вполне дюжинными. Лишь взявшись за Достоевского («Преступление и наказание» я прочитал в немецком переводе), я был озадачен и потрясен. Его роман так много мне открыл, что я прочитал один за другим все великие романы этого величайшего писателя России. И наконец, я прочитал Чехова и Горького. Горький оставил меня равнодушным. То, о чем он писал, было мне любопытно и ново, но сам он показался мне писателем некрупного дарования; его вполне можно читать, когда он без лишнего пафоса описывает жизнь низов, но мой интерес к трущобам Петрограда быстро иссяк; а его рассуждения и философические отступления представляются мне банальными. Талант Горького неотъемлем от его происхождения. Он писал о пролетариате, как пролетарий, в отличие от большинства авторов, трактовавших эту тему с буржуазной точки зрения. Чехов же, напротив, очень близок мне по духу. Вот настоящий писатель — не такой, как Достоевский, который, точно необузданная стихия, поражает, восхищает, ужасает и ошеломляет; а писатель, с которым можно сойтись. Я почувствовал, что именно он откроет мне загадку России. Он знал самые разные стороны жизни и знал их не понаслышке. Его сравнивали с Ги де Мопассаном, но, надо полагать, лишь те, кто не читал ни того, ни другого. Ги де Мопассан — умелый рассказчик, в вершинных достижениях блестящий, а любого писателя и следует судить по вершинам, но к жизни его рассказы прямого отношения не имеют. Наиболее известные его рассказы читать увлекательно, но они настолько искусственны, что в них лучше не вдумываться. Его герои — лицедеи, их трагедии — это трагедии марионеток, не живых людей. Взгляды Мопассана на жизнь, то есть подоплека поступков его героев, — убоги и пошлы. У Ги де Мопассана — душа сытого коммивояжера; и его слезы, и смех отдают провинциальной гостиницей, где собираются торгаши. Он сын мсье Омэ. Рассказы же Чехова читаешь, не обращая внимания на то, как они сделаны. Виртуозность Чехова не бросается в глаза, и может показаться, что эти рассказы написал бы каждый, вот только никто так не пишет — и это факт. У Чехова речь идет о том, что его взволновало, и он умеет передать это так, что его волнение передается читателю. И тот становится его соавтором. К чеховским рассказам неприложимо избитое определение «кусок жизни», потому что кусок — нечто, отрезанное от целого, чего о рассказах Чехова никак не скажешь; его рассказ — это сцена, увиденная как бы ненароком, и хотя показана лишь ее часть, понятно, чем она кончится.