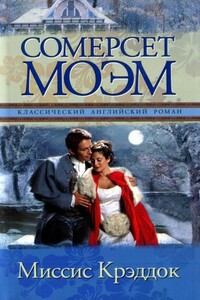Записные книжки | страница 41
Пашня, приобретающая под солнцем разнообразные оттенки яшмы.
Зелень вязов, что темнее нефрита.
В солнечных лучах влажные листья сверкали изумрудами, словно поддельные драгоценности, что вполне подошли бы для украшения порочного великолепия королевской куртизанки.
Блещущие той искусственной, замысловатой пышностью, которая свойственна дивным старинным украшениям, усыпанным драгоценными камнями.
Зеленый цвет, подобный зелени на старинных эмалях, — прозрачнее и ярче изумруда.
Роскошный глубокий цвет граната.
Полупрозрачное, оно переливалось всем богатством красок агатового среза.
Небо, синевшее ярче ляписа лазури.
После дождя, под угасающим солнцем, пейзаж засверкал новыми, почти неестественно пышными красками, сходными по роскоши с лиможской эмалью.
Подобно лиможской пластине, сверкающей роскошными красками.
В глубокой полупрозрачной тени вода густела насыщенной зеленью нефрита.
Читатель, наверное, уже давно гадает, откуда вдруг взялись здесь все эти эмали и камни, драгоценные и полудрагоценные. Я готов объяснить. В то время, находясь под впечатлением пышной прозы, столь модной в девяностые годы, и чувствуя, что мой стиль тускл, незамысловат и зауряден, я решил попытаться расцветить и украсить его. Для этого я стал усердно читать Мильтона и Джереми Тейлора. В один прекрасный день, перебирая в уме особенно вычурный отрывок из «Саломеи» Оскара Уайльда, я отправился в Британский музей, прихватив с собой карандаш и бумагу; там я и сделал эти заметки в надежде, что когда-нибудь они пригодятся.
Пикадилли перед рассветом. После дневной суеты и бесконечного потока экипажей предутренняя тишь на Пикадилли кажется почти неправдоподобной. Она неестественна, едва ли не призрачна. Пустынность придает этой замечательной улице некую угрюмую ширь; сделав величавый поворот, она уверенно и неспешно течет вниз с горделивым достоинством спокойной реки. Воздух чист и ясен, но каждый звук в нем слышен особенно отчетливо — случайный одинокий экипаж наполняет шумом всю улицу, и четкий перестук лошадиных копыт долгим эхом отзывается окрест. Поражающие своей упорядоченностью электрические фонари, самоуверенные и наглые, озаряют все вокруг резким снежно-белым сиянием; равнодушный, слепяще-безжалостный свет заливает огромные притихшие дома, а там, внизу, отчетливо проступают строгие линии парковой ограды и стволы деревьев за нею. Между фонарями, едва заметные в их блеске, неровной цепочкой блеклых самоцветов мерцают желтые огоньки газовых рожков.