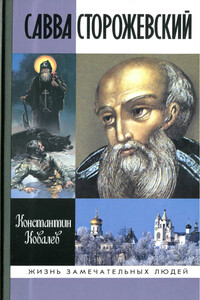Записки викторианского джентльмена | страница 92
Как бы то ни было, вы понимаете, отчего я так дорожил домом в Кенсингтоне на улице Янг, 13, хотя он был всего только подобием того, о чем я грезил, и никогда не принадлежал мне по-настоящему. Мы с девочками жили в нем с 1846 по 1854 год, долго - дольше, чем где бы то ни было, - и счастливо. Дом этот был самый обыкновенный, двухфасадный, с эркерами, но славный, стоял в удобном месте на лондонской окраине и сдавался за умеренную цену - 65 фунтов в год (ну вот, я вас предупреждал, что не утерплю и приведу вам точную сумму арендной платы). Под кабинет я занял в задней части дома комнату в два окна, увитых виноградом и выходящих на мушмулу и кусты крупноцветного жасмина. Сад был довольно большой, усеянный пряными цветами: вербеной, ирисами, камнеломкой, алыми розами, - и очень светлый, вобравший в себя все лондонское солнце. Над кабинетом, также в задней части дома, помещалась моя спальня, а над ней - классная комната, откуда доносилось столько энергичного хлопанья и стука, что я слышал его через этаж. Эта классная превратилась в истинный зверинец: кроме кошек, Минни держала там двух голубей, улиток и всяких мошек, которыми кишели подоконники. В остальной части дома все было как обычно, но не хватало спален - ведь с нами постоянно жила гувернантка (о гувернантках я расскажу дальше) и подолгу гостили родственники. Комнаты были обставлены самой невероятной смесью: что-то дала мне матушка, что-то осталось после Грейт-Корэм, а что-то я порою покупал. Короче, то было холостяцкое хозяйство, отчасти элегантное, в основном удобное и, несомненно, беспорядочное: чай наливали из старого растрескавшегося чайника в изящнейшие чашки, оловянными приборами ели с золотых тарелок - возможно, я слегка преувеличиваю, но дух передаю вам верно. Девочкам это было безразлично, мне обычно тоже, лишь изредка душа просила красоты и малой толики роскоши, но я к ней не прислушивался, ибо дорожил той новой жизнью, которая была мне отпущена.
Не проходило дня, чтоб я не благословлял судьбу за детский шум и смех, звучавшие в моем доме; после стольких лет, прожитых в холодных, чужих комнатах, то было райское блаженство: открыть входную дверь, ответить на восторженные поцелуи, вдохнуть запах готовящегося обеда и почувствовать себя дома. Радость, которую мне доставляли дети, во много раз превышала незначительные родительские огорчения; девочки трогательно старались справиться с ролью примерных дочек, казалось, им не мешала ни моя сумасбродная привычка исчезать и возвращаться, когда вздумается, ни долгие часы, которые я проводил взаперти в своем кабинете. Этот самый кабинет, порога которого они, по идее, не должны были переступать, был их излюбленным местом. Они подолгу, с восхищением разглядывали мои остро отточенные карандаши и наблюдали с восторженным вниманием, как я обрезаю перья под привычным мне углом, - в конце концов я не выдерживал и начинал смеяться над благоговением, с каким они созерцали самые простые действия. Надеюсь, они не были несчастны, хотя подозреваю, что порой бывал не в меру серьезен, излишне строг и недостаточно внимателен к нуждам двух юных женщин. Благослови их господи, они никогда не жаловались, но мне бы следовало чаще с ними играть и вносить в дом больше оживления. Однажды я пытался это высказать, но Анни, смеясь, закрыла мне ладошкой рот, и потребовала, чтоб я перечислил, куда их беру и как много интересных людей они видят, а это гораздо лучше, чем сидеть дома. То была правда - я их брал повсюду. Дамам, приглашавшим мистера Теккерея в дневное время, приходилось мириться с тем, что их приглашение распространялось и на мисс Анни и Хэрриет Теккерей. Девочки никогда меня не подводили: с миссис Карлейль, всегда встречавшей их двумя чашками горячего шоколада, они с замечательной серьезностью говорили о погоде, с миссис Браунинг - с похвальным энтузиазмом - о поэзии и с каждым желающим - о здоровье. У этих добрых дам они невероятно лакомились бесчисленными чашками чая, пирожными, желе и, того и гляди, грозили стать настоящими толстушками, особенно Анни, которая пошла в вашего покорного слугу. Минни больше напоминала мать, в ней чувствовалась хрупкость, весьма меня тревожившая, и я следил за тем, чтобы она не переутомлялась, не перевозбуждалась и чтоб с нее не слишком много спрашивали. Она была не так умна, как Анни, но более sympathique и излучала спокойствие и нежность, которых не доставало более крепкой Анни. У меня всегда было такое чувство - оно и сейчас со мной, - что Минни нужно оберегать, иначе на нее падет тень матери; бог даст, она выйдет замуж за человека, способного понять это.