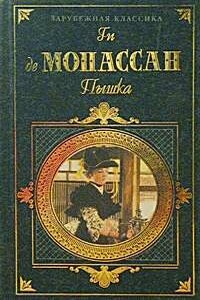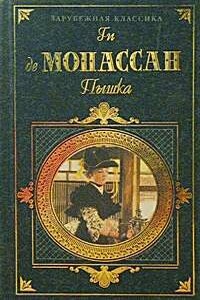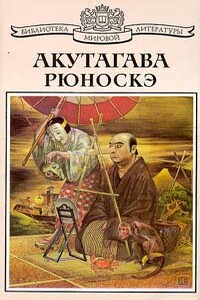Счастье | страница 3
Вокруг хижины был садик и несколько виноградных лоз, поодаль росло несколько больших каштанов — словом, было чем жить; для такой нищей страны это уже целое богатство.
Меня встретила старая, суровая и, что редкость в тех краях, опрятная женщина. Сидевший на соломенном стуле мужчина встал, поклонился мне и опять сел, не вымолвив ни слова. Его подруга сказала мне:
— Не взыщите, пожалуйста, он оглох. Ему восемьдесят два года.
Она говорила на чистом французском языке. Меня это удивило.
Я спросил:
— Вы не корсиканка?
Она ответила:
— Нет, мы с материка. Но мы живем здесь уже пятьдесят лет.
Тоскливое и тревожное чувство охватило меня: пятьдесят лет прожить в этой мрачной дыре, так далеко от городов, от людей! Вошел старик пастух, и все уселись за стол и стали есть густую похлебку из картошки, сала и капусты — из этого блюда состоял весь ужин.
Когда кончилась краткая трапеза, я вышел посидеть у порога; я глядел на угрюмый ландшафт, и сердце мое сжималось от печали, томилось той тоской, что охватывает путешественников в иные грустные вечера, в иных безотрадных местах. Кажется, все близится к концу — и собственная жизнь и жизнь вселенной. Внезапно начинаешь постигать ужасающую горечь бытия, разобщенность всех людей, ничтожество всего земного и непроглядное одиночество сердца, которое убаюкивает и обманывает себя неустанно до самой смерти.
Старуха вышла ко мне и, подстрекаемая любопытством, которое таится даже в глубине безропотно смирившихся душ, спросила:
— Вы, значит, из Франции?
— Да, я путешествую удовольствия ради.
— Вы не из Парижа ли?
— Нет, я из Нанси.
— Вы из Нанси?
Мне показалось, что ее охватило глубокое волнение. Каким образом я заметил или вернее почувствовал это — не знаю.
Она медленно повторила:
— Вы из Нанси?
На пороге показался ее муж, безучастный к окружающему, как и все глухие. Она молвила:
— Ничего! Он не слышит.
Потом, спустя несколько мгновений, продолжала:
— Значит, в Нанси у вас есть знакомые?
— Как же, я знаю почти весь город.
— А семью Сент-Аллез знаете?
— Еще бы, прекрасно знаю; это были друзья моего отца.
— Как ваша фамилия?
Я назвал себя. Она пристально посмотрела на меня, потом проговорила тихим голосом, как говорят, вспоминая о чем-нибудь.
— Да, да, помню А что сталось с Бризмарами?
— Все умерли.
— Вот как! А Сирмоны? Вы их знали?
— Да, младший из них — генерал.
И тут она произнесла, трепеща от волнения, от тоски, от какого-то смутного, мощного и священного чувства, от какой-то потребности признаться, высказать все, говорить о том, что до сих пор таилось в глубине ее сердца, и о людях, имя которых потрясло ее душу.