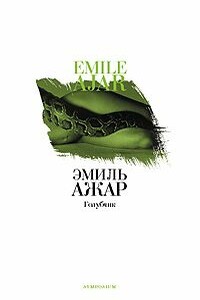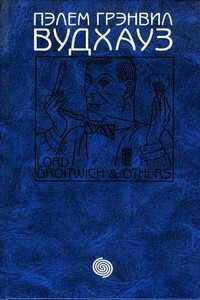Вся жизнь впереди | страница 33
Мадам Роза стала лопать поменьше, и это шло на пользу не только ей, но и всем нам. И потом, пацанов стало побольше — наступило лето, и люди разъезжались кто куда. Никогда еще я так не радовался, подтирая попы, потому что они сулили хороший приварок, и даже когда пальцы у меня оказывались в дерьме, несправедливостью тут не пахло.
На беду, мадам Роза менялась прямо на глазах — из-за законов природы, которые взялись за нее со всех сторон, набросившись на ноги, на глаза, на такие известные органы, как сердце, печень, артерии, и вообще на все, что можно обнаружить у сильно изношенного человека. А поскольку лифта у нас не было, ее порой заклинивало между этажами, и нам всем приходилось спускаться и подталкивать ее сзади, даже Банании, который начал пробуждаться к жизни и понимать, что и ему есть смысл сражаться за свой кусок хлеба с маслом.
Самые важные части у человека — это сердце и голова, и за них-то и приходится дороже всего расплачиваться. Если останавливается сердце, то на этом все заканчивается и продолжения ждать нечего, а если отключается голова и уже не варит как положено, человек лишается способности пользоваться жизнью. Мне думается, жить надо начинать сызмальства, потому что после все теряют к тебе интерес и никому ты на фиг не нужен.
Иногда я приносил мадам Розе вещи, которые подбирал без всякой нужды, — они ни на что не годны, но доставляют удовольствие, потому что их никто не хочет и их выбросили. Например, рядом с вами живут люди, у которых дома есть цветы — какая-нибудь годовщина или просто так, чтобы в квартире повеселей было, — и когда цветы засыхают и уже не украшают, их выкидывают на помойку, так что если встать рано поутру, их можно подобрать, чем я и занимался, это называется утилизацией вторсырья. Кое-какие цветы еще не совсем полиняли, они еще помаленьку жили, и я собирал из них букеты, не задаваясь вопросами возраста, и дарил мадам Розе, которая ставила их в вазы без воды, потому что вода была уже ни к чему. А еще, бывало, я тырил целыми охапками с тележек на Центральном рынке мимозу и приносил ее домой, чтобы и там попахло счастьем. По пути я мечтал о цветочных сражениях в Ницце [[9] ] и о дремучих мимозовых лесах вокруг этого белоснежного города, который мосье Хамиль знавал в молодости и о котором порой мне кое-что рассказывал, но мало, потому что сам был уже не тот.
Чаще всего дома у нас говорили по-еврейски или по-арабски, а иногда по-французски — это когда у нас бывали иностранцы или когда мы не хотели, чтобы нас понимали свои, но теперь мадам Роза смешивала все языки своей жизни и говорила со мной даже по-польски — это был для нее самый давнишний язык, и он возвращался к ней, потому что если у стариков что и остается, так это их молодость. В общем-то, если не считать лестницы, за жизнь она еще боролась. Но жизнь эта, по правде говоря, была не повседневной, и требовались уколы. А попробуй-ка найди резвую медсестру, чтобы топала на седьмой пешком да притом не обдирала вас как липку. Хорошо хоть это дело я уладил с Махутом, который кололся на законном основании, — у него был диабет, и потому здоровье ему это позволяло. Он был славный малый, который создал себя сам, но все равно оставался черным и алжирцем. Он продавал транзисторы и другие плоды своего воровского труда, а в свободное время пытался вылечиться от наркомании в больнице Мармоттан, куда у него был ход. Он пришел сделать мадам Розе укол, но дело чуть не кончилось скверно, потому что он перепутал ампулы и загнал мадам Розе в задницу дозу героина, которую берег на тот день, когда закончит курс излечения.