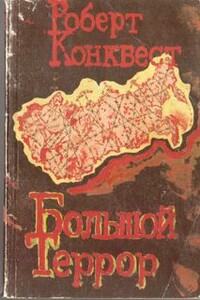Большой террор. Книга II. | страница 10
Те, кто вернулся осенью 1937 года из-за границы, как, например, Илья Эренбург, были глубоко потрясены изменениями в стране. По пути из Испании Эренбург остановился в Париже, откуда позвонил своей дочери. Но он не мог выдавить из нее ничего, кроме разговора о погоде. В Москве он обнаружил, что многие писатели и журналисты исчезли. В редакции «Известий» уже перестали вывешивать дверные таблички с именами начальников отделов. «Курьерша объяснила мне, что не стоит печатать: „Сегодня назначили, а завтра заберут“», — запишет потом Эренбург.[28] То же самое можно было наблюдать в министерствах и в других учреждениях — пустые места, осунувшиеся лица, полное нежелание вступать в разговоры. Американский журналист Фишер, который жил в Москве летом 1937 года, вспоминает, что НКВД произвел аресты в половине из 160 квартир его дома и дом этот не был исключением.[29]
Ареста можно было избежать различными способами. Один широко известный ученый избежал первой волны репрессий, прикинувшись пьяницей. Другой пошел дальше: он напился пьяным и стал дебоширить в парке, получил 6 месяцев, но избежал политических неприятностей.[30] Интересно, что некоторые из самых убежденных противников режима — очевидно самые дальновидные — спаслись тем, что удалились в тень. Николай Стасик, например, бывший министр в антикоммунистическом правительстве Украинской Рады в 1918 году, уцелел в Мариуполе. До прихода немцев во время второй мировой войны он работал в городском парке.[31]
Иногда между увольнением человека и его арестом проходило некоторое время, так что можно было уехать из крупных городов. С. Поплавский (которого впоследствии, после войны, Сталин назначил заместителем Главнокомандующего польской армии) в 1937 году учился в академии им. Фрунзе, После исключения из партии и из академии он, чтобы избежать возможных последствий, сразу же покинул Москву, а через год или полтора, т. е., очевидно, после падения Ежова, появился вновь. Его реабилитировали и восстановили в академии.[32]
Вообще, частое передвижение с места на место давало известную гарантию безопасности. Обычно проходило по крайней мере месяцев шесть или даже год, прежде чем местное отделение НКВД начинало интересоваться приезжим или собирало о нем достаточно сведений. Много времени уходило на пересылку личного дела из старого отделения НКВД в новое, по месту жительства: такие документы шли не обычной почтой, а по специальным каналам НКВД. Иногда они вообще не доходили.