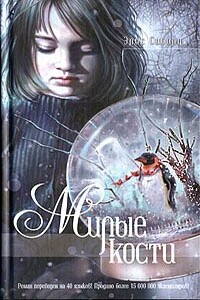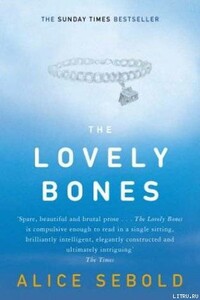Почти луна | страница 9
Когда отец ее встретил, мать только что приехала из Ноксвилла, штат Теннесси, и зарабатывала на жизнь демонстрацией нижнего белья и корсетов. Она предпочитала говорить: «Я позировала в сорочках». Таких-то фотографий у нас и было полно. Черно-белые снимки матери, одетой в черную или белую сорочку.
«Эта была бледно-желтая», — могла заявить она из угла гостиной, никого не удостоив словом весь день.
Я знала, что она имеет в виду определенную сорочку на конкретной фотографии, и, чувствуя это, выбирала белую, которая, на мой взгляд, могла оказаться бледно-желтой. Если я ошибалась, мгновение лопалось — не менее хрупкое, чем мыльный пузырь, сверкающий во дворе, — и она вновь оседала в кресле. Но если я выбирала правильно, а со временем я все запомнила — цвета слоновой кости, цвета небеленого полотна, телесного цвета и моя любимая цвета розовых лепестков, — я приносила ей фотографию в рамке. Цепляясь за тонкую нить ее улыбки, мы уносилась в прошлое. Скромно и тихо сидя на оттоманке, мать рассказывала мне историю фотосъемки, о мужчинах, принимавших в ней участие, или о подарках, которые получила как часть гонорара.
Цвета розовых лепестков была связана с моим отцом.
— Он даже не был фотографом, — говорила она. — Он был младшим водным инспектором в одолженном костюме с носовым платком, но я-то тогда этого не знала.
Это были годы моего раннего детства, когда мать еще была сильна и не приобрела того, что почитала непростительными изъянами возраста. За два года до пятидесяти она начала занавешивать все свои зеркала тяжелой тканью, но, когда потом, уже подростком, я предложила вовсе убрать их, она отказалась. Она дряхлела, а зеркала оставались. Ее темные, немые обвинения.
Но на снимках сорочки цвета розовых лепестков она все еще была достойна своей любви, и именно в этой эгоистичной любви я пыталась черпать теплоту, не желая признавать, что фотографии подобны историческим документам нашего городка. Они доказывали, что давным-давно было больше надежды. Ее улыбка тогда была беспечной, а не вымученной, и страх, способный превратиться в горечь, еще не окрасил ее глаза.
— Он был другом фотографа, — рассказывала она. — Он пришел в город кутить, и костюм был частью лжи его друга.
Я знала, что не следует спрашивать: «Какой лжи, мама?» Потому что она сразу съезжала на рассуждения о том, что ее брак был всего лишь долгим, тягостным результатом послеобеденного жульничества двух школьных друзей. Вместо этого я задавала другой вопрос: «Для кого ты снималась?»