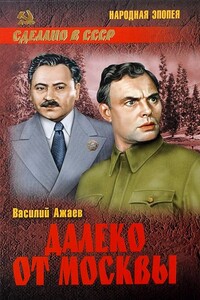Вагон | страница 19
Песни, похожие на вопли, и вой встретившихся на пересылке однодельцев, их надрывное объединившееся горе или запоздалый яростный счет, в котором горько и бесполезно выясняется, кто кого оговорил, кто кого посадил. Факт остается фактом: сидят и тот и другой.
На пересылке очутился и мой бутырский знакомый Кубенин. Ему объявили приговор вслед за мной, напрасным было его злорадство («А вы уже…»). Сейчас я вижу бывшего соседа, беседующего, как видно, со своими друзьями по делу. Один из них — длинный очкарик с толстыми губами; другой — широкоплеч и чуть сутуловат, у него задумчивое и грустное лицо. О чем они беседуют? Впрочем, говорит, разумеется, Кубенин.
Совсем неправдоподобно на моих глазах меняется обстановка: широкоплечий вдруг сильно размахивается, Кубенин тяжело шмякается на каменный пол.
У очкарика отвисает толстая нижняя губа, он всплескивает руками и убегает оглядываясь. Широкоплечий спокойно стоит над поверженным Кубениным.
Окружающие реагируют на короткий поединок одобрительно:
— Выдал по первому разряду!
— Так и надо суке! Не продавай!
Никто и не думает прийти на помощь распростертому Кубенину — все нормально, состоялась справедливая расплата. Я не выдерживаю. Все-таки пострадавший вроде мой знакомый. Широкоплечий встречает меня внимательным взглядом.
— Проверили бы пульс у человека, — советую я.
— У человека я бы проверил, — отвечает он.
— Что же вы над ним стоите?
— Хочу понять, притворяется или в самом деле потерял сознание.
— А за что вы его?
— Еще не так надо бы! Знакомы с ним?
— Да. Сосед по камере в Бутырках.
— Ну, раз такое дело, помогите.
Мы берем обмякшего и грузного Кубенина за руки и за ноги и под смех окружающих перетаскиваем на нары. За этим занятием возникает на долгие годы вперед мое знакомство с Володей, с Владимиром Алексеевичем Савеловым. Возвращается очкарик, я знакомлюсь и с ним — он архитектор, зовут Юрий Петрович. Втроем мы энергично действуем: брызжем водой, шлепаем пострадавшего по щекам, архитектор обтирает вымазанное кровью лицо мокрым платком. Едва Кубенин открывает свои томные глаза, мы дружно его покидаем. Вслед нам глухой бормочет:
— Хулиганье! Сухаревская шпана!
Опять заныли, завыли, застонали блатные — новый романс. Они ведут себя мирно, никого не обижают. Сидят тесным кружком на каких-то подстилках «аристократы», остальные свисают с верхних нар, стоят либо лежат прямо на полу. Тюремный романс закончен, урки вспоминают про выпивку и еду, разложенную на газете. И разговаривают на своем нечеловеческом языке: