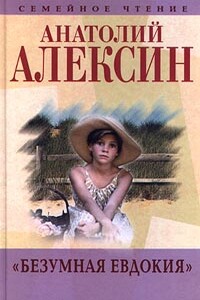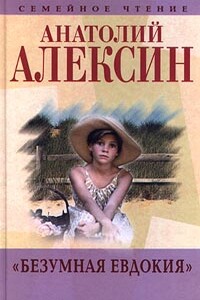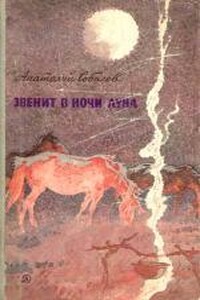Награде не подлежит | страница 38
И Люба сразу от ворот поворот произвела:
– Только забирайте-ка вашу бутылочку, дорогой Артем Николаевич, и... скатеркой дорожка!
– Погоди, – опешил мичман. – Я же еще и не сказал...
Лысина его вспотела. Когда Кинякин волновался, у него почему-то всегда потела лысина.
«Вот, черт, так и знал – сердце вещало, что неправильно поймут его. Поди, думает, что он сам, к ней клинья бьет». И, набравшись духу, мичман брякнул:
– Ты бы это... пригласила бы Костю нашего. На чай. Потолковала б с ним... хм. Парень-то мается. И до греха недолго. Боюсь я за него. Ему женское... хм... слово надо.
Мичман запинался, вытирал вспотевшие ладони о штаны и все хотел, чтоб Люба сама догадалась, что к чему.
А у Любы глаза на лоб полезли. Щеки, уши, открытая белая шея пошли красными пятнами. Когда кровь схлынула, когда Люба пришла в себя, она по-гусиному зашипела:
– Я тебе что!.. А? Жук навозный! Чего удумал! Да я тебя!... А ну катись отсюда, гад ползучий!
– Ты погоди, погоди! Ты уразумей, – пытался еще что-то втолковать ей мичман.
– Я уразумела! Это ты уразумей, кобель плешивый! – Глаза ее косили от ярости, и взгляд был текуч и ускользающ.
– Дело-то общественное, чего ты взъярилась? – увещевал мичман и, сказав это, понял – совсем не в те ворота въехал.
– Общественное! – задохнулась от возмущения Люба. – Я тебе дам «общественное»! Ах ты пес бесстыжий! Да как язык-то у тебя повернулся такое предлагать?!
Люба схватила подвернувшуюся под руку сковородку. Белая, зло ощерясь мелкими плотными зубами, она наступала.
И мичман дрогнул. Он пятился, не упуская из виду сковородку.
– Белены объелась! Чего взъярилась-то? Я к тебе как к сознательному человеку, а ты!.. – пытаясь еще сохранить достоинство, вразумлял ее Кинякин.
– «К человеку!» – захлебнулась словами Люба, наступая на него широкой грудью. – Змей подколодный, чурбак осиновый! Убью!
Люба запустила сквородкой, мичман увернулся. Сковорода тяжко грохнула в стену, посыпалась штукатурка. Кинякин снарядом вылетел в коридор, захлопнул дверь, прижал спиной. «Убила бы, – подумал он. – Голову расколоть можно, чугун ведь. Вот сука!»
Кинякин, матерясь, спешным шагом прошел коридор, воздавая богу хвалу, что никто не видел его позора. Пригладив остатки волос на темечке, одернув китель, нарочито неторопливо дошел до своих дверей. Уже взявшись за ручку, вспомнил, что оставил бутылку на столе. «Все. Накрылась водочка! – с сожалением подумал он. – Не отдаст». И тут же обругал себя: «Пенек березовый! Надо было сначала раздавить поллитру, а потом уж заманивать».