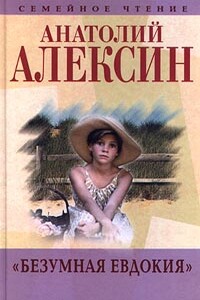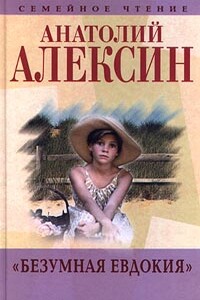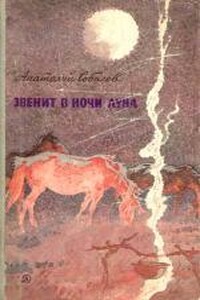Награде не подлежит | страница 33
Но мысль про Костю мелькнула и пропала, как только прошли водолазы, и Люба опять зябко повела плечами, вспомнив пристальный взгляд Лубенцова. Опять подумала, что жизнь ее теперь осложнилась. Всякий раз с ней такое бывает. Куда ни приедет – мужики липнут, как мухи на мед...
Люба видела, как Вадим вернулся из сопок, прошел мимо ее окна, не повернув головы. А ей вдруг жаль стало его, что вот невольно причинила боль. Но ведь сердцу не прикажешь...
Не спалось.
Сидела Люба у раскрытого окна, смотрела на холодный блекло-синий залив, похожий на огромную лужу снятого молока, на каменистые сопки противоположного берега, и чувство одиночества и затерянности на краю земли вновь охватило ее. Жалость к себе заполнила сердце, жалость к своей нескладной жизни, к своей ломаной судьбе. Что она видала за свой век? А ничего! Все работала да горе мыкала. И не к кому было прислониться душой, погреться у огонька, по-бабьи, со слезой, пожаловаться, зная наперед, что тебя поймут, обласкают, найдут целебное слово. Все сама да сама, все сильной надо быть, а так хочется, чтобы кто-то позаботился о тебе, так хочется побыть слабой, зная, что рядом друг, защитит, не даст в обиду.
Как нескладно сложилась ее жизнь! В девках, на покосе, изнасиловал ее деревенский кузнец, имевший уже троих детей. Руки накладывала на себя, но успели вытащить из омута. Кузнец потом валялся в ногах, валялась и жена его, хворая, молили пожалеть детишек, не доводить дело до суда. Сжалилась Люба, не лишила троих сопливых девчонок кормильца. Уехала в город, подальше от стыда, от молвы. Уехала с замороженным сердцем, и весь свет был черен. Нанялась на стройку разнорабочей, таскала по этажам кирпичи, жилы вытягивала. И все казалось попервоначалу, что знают товарки о ее стыде, молчат только, случая ждут на смех поднять.
Скоро ли, долго ли, а обжилась она в большом городе, пообтерлась, побойчее стала. И уж никто из своих деревенских не узнал бы в шустрой востроглазой работнице стройки когда-то тихую, по-сельски застенчивую Любу.
На свою беду влюбилась в парня форсистого, чем-то похожего на Лубенцова – такого же чернявого да красивого. А он побаловался с ней да и бросил. Девочку на память оставил. Недолго жила дочка, бог прибрал. И опять закаменела Люба, тоску на подружек в общежитии наводила, будто неживая была.
Перетерпела и это горе и на жизнь стала смотреть просто. И мужиками уже не брезговала. Бойкость появилась, языкастость, легкость. Эх, завей горе веревочкой! Однова живем! В горькие минуты корила себя, презирала за вольность и неразборчивость. И все погреться возле кого хотела, все надеялась семью завести. А попадались или пьянчужки, или драчуны. И сама уходила, и от нее уходили.