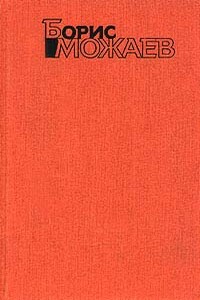Мужики и бабы | страница 87
На другой день у пантюхинской околицы появился милицейский патруль – шесть верховых с винтовками через плечо. Мужики заставили околицу телегами, набросали на телеги бороны зубьями кверху и сами залегли, кто с дробовиком, кто с берданкой, а кто и с вилами да с косой. Баррикада!
– Выдайте зачинщика! – говорит старший наезда. – Не то отряд вызовем. Хуже будет.
А те из-за своей засады:
– Лес наш. Таперика мы сами хозяева. Подавайте в суд. Пускай рассудят по закону.
Так они потоптались возле околицы, а приступом взять побоялись – не осилят. Чего их всего-то? Горсточка… Колами и то зашибут. Ладно, поехали по конопляникам, вдоль задов… Ну, думают пантюхинские, наша взяла, струсили.
А те заметили щербину в огородных плетнях – заброшенную усадьбу Марфутки Погорелой – и сквозь эту брешь ворвались с гиканьем в село. Сорвали винтовки: «Расходись по домам! Стрелять будем!» Захлопали выстрелы, забрехали собаки, завизжали свиньи, бабы заголосили. Ну, прямо как на пожаре. Думали милиционеры – мужики, мол, дрогнут от такого внезапного удара с тыла, побросают свои дробовики да вилы и по домам разбегутся. Но не тут-то было… Пантюхинцы, услыхав выстрелы, как в штыковую бросились с обоих концов села с вилами наперевес. Ну, застрелили десяток, другой… А их сотни… Ревущая, разъяренная, неудержимая лавина. Сомнет и в землю втопчет. Постреливая в воздух, не спуская глаз с наседающих мужиков, милиционеры заворачивали коней и один за другим, как застигнутые облавой волки, ныряли в спасительный проран Марфуткиной усадьбы. Победа пантюхинцам обошлась почти бескровно, если не считать убитой свиньи да раненого деда Михея Каланцева, – шальная пуля прошила стену избы и задела ему ягодицу. Он лежал на печи… Мужики смеялись: «Ничего, Михей Корнеевич… Главное, бок не задела – спать можно. А сиделка тебе ни к чему. Похлебать щей и на боку можно. На печь подадут. Еще лучше».
Но Тимофея Кадыкова все-таки взяли. Схватили его недели через две на тихановском базаре. Били при всем народе кнутами… Потом сорвали с него рубаху, связали руки и ноги и везли через все деревни по столбовой дороге в уездную тюрьму. Просидел он до глубокой зимы, пока власть не сменилась. Пришел больной, избитый… Покашлял месяца два да и помер.
Гулкий скрежет церковных железных дверей заставил Кадыкова очнуться.
Возле паперти собирался народ к заутрене – больше все молодайки в длинных полосатых поневах, в темных, в белую крапинку ситцевых платках, повязанных углом, по-старушечьи, да с белой перевязью широких рушников, приторочивших на весу перед грудью запеленатых младенцев. Судя по густо запыленным сапожкам да высоко шнурованным ботинкам-румынкам, можно было предположить, что пришли они издалека. И Кадыков вдруг вспомнил, что скоро Троица – самая пора исцеления больных младенцев.