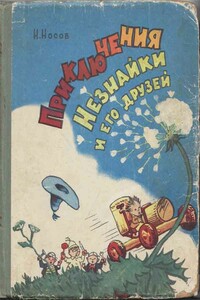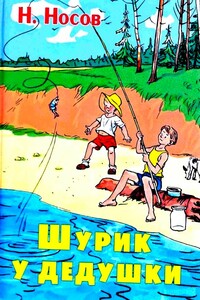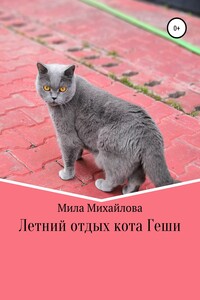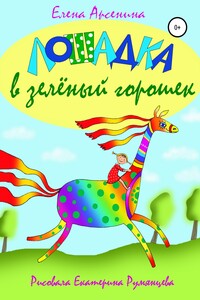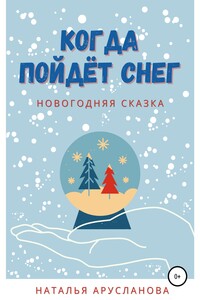Тайна на дне колодца | страница 53
— Не-ет, я все-таки меньшевик!
— А я большевик! — не сдавался отец.
Нужно сказать, что спорили они вполне корректно, без запальчивости, не теряя уважения друг к другу. Может быть, тому причиной были родственные отношения и разница в возрасте. Дядя Коля был младше. Отец знал его еще мальчиком, по привычке говорил ему “ты” и называл просто Колей. Дядя Коля неизменно говорил отцу “вы” и называл Николаем Петровичем.
Ни тот, ни другой не были членами большевистской или меньшевистской партий, но в тогдашние времена было такое обыкновение: кто был за большевиков, тот считал себя большевиком и говорил, что он большевик, а кто разделял взгляды меньшевиков, говорил о себе: “Я меньшевик”.
Что касается меня лично, то я безусловно был за большевиков, но, признаюсь, вовсе не потому, что знал программу большевистской партии и мог сказать, чем она отличается от других всяких программ, а, во-первых, потому, что за большевиков был отец, во-вторых, само слово “большевик” мне нравилось, а слово “меньшевик” не нравилось по той ассоциации, что больше всегда лучше, чем меньше; лучше иметь чего-нибудь больше, нежели меньше, лучше быть большим, а не маленьким и т. д. К тому же из всех разговоров определенно чувствовалось, что большевики против буржуев (так тогда было принято называть богачей), что они за народ, то есть за бедняков, и не просто за бедняков, а за самых бедных, за неимущих, у кого совсем ничего нет, за пролетариев. Кстати, слово “пролетарий” тоже нравилось; в нем было что-то легкое, воздушное, летающее.
Эти слова, то есть “большевики” “меньшевики”, “буржуи” и “пролетарий”, были самые употребительные в те времена. Их можно было услышать дома и во дворе, на улицах и площадях. Наравне с ними употреблялось, пожалуй, только слово “долой”: “Долой войну!”, “Долой буржуев!”, “Долой Временное правительство!”, “Долой десять министров-капиталистов!” (то есть тех десять богачей-министров, из которых состояло Временное правительство).
Ветер революции только подул, а взбаламученное людское море уже не могло успокоиться. Оно бурлило, кипело. Его, как говорится, штормило. На городских площадях то и дело происходили митинги. На платформу подкатившего к тротуару грузовика один за другим взбирались ораторы и выступали перед собравшейся вокруг толпой. Они говорили, щедро уснащая свои речи такими словами, как “эксплуатация”, “экспроприация”, “национализация”, “демократизация”, “демобилизация”, “контрибуция”, “реставрация”, “узурпация”, “милитаризация” и так далее в этом роде. Насыщенные такими словами речи были непонятны мне. Да и не одному мне, насколько я мог заметить. Уже после митинга в поредевшей толпе начинались свои, более понятные для меня разговоры.